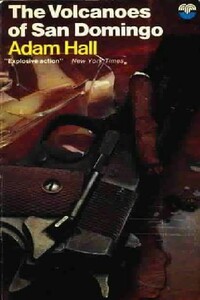Мейтленд был в комнате сна один. Видимо, отпустил медсестер. Ходил от кровати к кровати, мерил давление, пульс, температуру, делал записи. Селии Джонс делали электроэнцефалограмму, время от времени Мейтленд подходил к ней, чтобы проверить результаты. Меня он едва заметил.
Наконец повернулся ко мне и сказал:
– А-а, это вы, Джеймс. Идите сюда. У Селии Джонс очень любопытная картина. Полагаю, в дело вступил некий процесс, препятствующий пробуждению.
Я подошел и изучил амплитуду. Она была и впрямь необычна. Мейтленд продолжил заниматься делами. Он, кажется, совсем не тревожился за судьбу пациенток. Наоборот, совершенно неприлично оживился. Мейтленд был так поглощен работой, что, скорее всего, о жене за все это время даже не вспомнил.
Тут я сообразил, что всего несколько часов назад собирался увольняться. Однако теперь, во время кризиса, поднимать эту тему неуместно. Мейтленд будет в ярости, и я его понимаю. Но я не передумал. Решил уволиться, как только представится более удобный момент. Вдобавок, к стыду своему, было любопытно, что будет дальше.
Когда мы покинули комнату, Мейтленд продолжал фонтанировать идеями.
– Потрясающе! – говорил он. Затем более тихо прибавлял: – Просто потрясающе.
Я поднялся по лестнице и прошел мимо Хартли. Тот натирал перила каким-то маслянистым веществом. Я часто заставал его за этим занятием. Хартли поднял глаза и кивнул мне. Я чуть не спросил его о почерневшей резьбе. Интересно, что он об этом думает? Но у меня без того проблем хватало, да и Хартли разговорчивостью не отличался.
Поднявшись к себе, сразу направился в кабинет. Сидя у стола, вертел в пальцах ручку и размышлял о пациентках. Вспомнил их печальные истории. Это не какие-нибудь неодушевленные предметы, а живые люди.
А вдруг они не проснутся, думал я. Ни завтра, ни послезавтра, ни потом. Что, если пациентки так и останутся в этом состоянии на недели, месяцы, годы? Что с ними будет? Проблемы с сердцем? Инфекции? Инсульты? Вообще-то правильнее всего было бы перевести их в главную больницу, в Ипсвич, там у них больше аппаратуры и возможностей. Но Мейтленд ни за что не даст согласие. Он хочет наблюдать, тестировать, следить за результатами. Можно подумать, мы не лечим, а ставим эксперимент. Впрочем, так оно и было с самого начала. Мог бы догадаться раньше, как только прочел буквы «ЦРУ» на бумаге в папке Мариан Пауэлл.
Пытаясь упорядочить мысли, я решил записать их и полез в нижний ящик за блокнотом. Он был набит битком, пришлось достать несколько вещей, включая резерпин Палмера. Взял упаковку и сразу понял: что-то изменилось. Внутри ничего не перекатывалось. Я поднял крышку и заглянул внутрь. Там было пусто. Три белые таблетки исчезли.
На следующее утро Мейтленд вызвал меня к себе в кабинет. Он сидел за столом, усыпанным электроэнцефалограммами, книгами и листами бумаги, исписанными его характерным почерком. Папки, которые я тайком изучал, – те, что лежали в сером шкафчике, – теперь были навалены одна поверх другой около телефона.
– Всю ночь работали? – спросил я.
– Почти. Впрочем, около трех вздремнул полчасика. – Он указал на кушетку и снова взялся за бумаги. Казалось, Мейтленд должен был утомиться, но он, как всегда, выглядел ухоженным и жизнерадостным. Мейтленд только что побрился, от него сильно пахло одеколоном. Волосы сверкали от свежего слоя помады.
– Прошу, – приветливо пророкотал он. – Присаживайтесь.
– Как они? – спросил я.
– Без изменений, – ответил Мейтленд.
– Поразительно.
– Согласен.
Мейтленд показал мне необычные волны, которые обвел черными чернилами. Спросил моего мнения, затем сообщил, что уже заказал в Лондоне второй энцефалограф.
– Доставят днем. У меня есть подозрение, – продолжил он, ткнув в красные волны пальцем, – что в этом все и кроется. Если разные пациентки продемонстрируют одинаковые результаты, это будет наш первый шаг. Сможем подвести под феномен физиологическую базу.
Мейтленд продолжал с энтузиазмом рассуждать. Умолкал только затем, чтобы проверить, слежу ли я за ходом его мысли. Мейтленд высказал довольно смелую догадку, что синхронные сновидения могут оказывать терапевтический эффект.