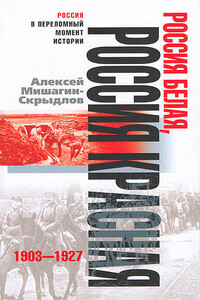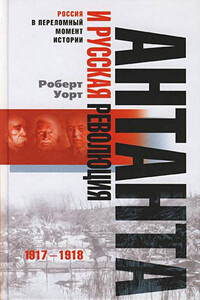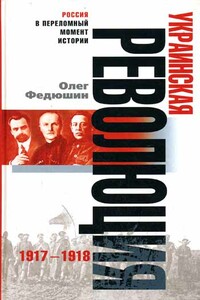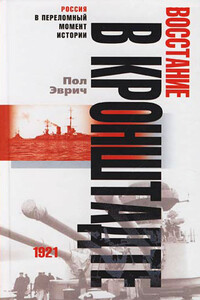Коминтерн и мировая революция. 1919-1943 - страница 44
Обращаясь теперь к тем странам, которым назначалась «буржуазно-демократическая» революция, которая могла бы довольно быстро «перерасти» в «социалистическую пролетарскую» революцию, в качестве главных примеров можно назвать Испанию и Японию.
Природа современной испанской революции была определена испанским коммунистом Уртадой на двенадцатом пленуме ИККИ в 1932 году. Он заявил, что «основной особенностью испанской революции остается незаконченная буржуазно-демократическая революция и, главным образом, аграрная революция»>30. В Испании в ходе «буржуазно-демократической» революции были не завершены по крайней мере три задачи: в области землевладения, в вопросе о национальных меньшинствах и в правительственной сфере (бессменное феодально-монархическое правительство вплоть до революции в апреле 1931 года)>31. «Буржуазно-демократический» характер испанской революции был подтвержден в 1936 году Эрколи (Тольятти), который указал на то, что испанский народ решал задачи «буржуазно-демократической» революции в особых условиях гражданской войны в Испании>32.
С Японией дела обстояли еще сложнее. Довольно удивительно, что значительные успехи в области промышленного роста, достигнутые Японией, свидетельствовали о том, что она не могла быть отнесена к категории стран, которым предопределялась «пролетарская» революция. Главными отличительными чертами Японии являлись: ее «отсталая, азиатская, полуфеодальная» система сельского хозяйства и ее специфический политический режим, возглавляемый монархией, опирающейся на поддержку землевладельцев и буржуазии>33. Большой процент пролетариев в населении страны (приблизительно 50 процентов от общего числа)>34 никоим образом не повлиял на то, чтобы Коминтерн признал Японию страной, в которой должна была произойти пролетарская революция.
В 1927 году Коминтерн под руководством Бухарина опубликовал новые тезисы, в которых говорилось, что в тот период для Японии подходила «буржуазно-демократическая» революция>35. Впоследствии тезисы были подвергнуты пересмотру, и в 1931 году в проекте программы, выпущенном Центральным комитетом компартии Японии, было заявлено о том, что Японии соответствует «пролетарская» революция>36. Проект Центрального комитета критиковался в документе, названном «О ситуации в Японии и задачах Коммунистической партии Японии», который исходил от Западно-Европейского бюро Коминтерна и был опубликован в «Коммунистическом интернационале» в марте 1932 года. Цель документа заключалась в изменении характера революции в Японии и признания за ней права на «пролетарскую» революцию. Поднимая вопрос о природе японской революции, Западно-Европейское бюро уделило главное внимание «уникальности системы правления в Японии, которая представляет собой соединение необычно сильных элементов феодализма с хорошо развитым монополистическим капитализмом»>37. Система государственного правления в Японии во главе с монархией опиралась не только на «феодальный, паразитирующий класс землевладельцев», но также и на «хищническую буржуазию», которая быстро обогащалась. В то же самое время монархия сохраняла «свою собственную независимость, большую роль в управлении государством и абсолютизм, скрытый под псевдоконституционными формами правления»>38. Ошибка японских коммунистов состояла в недооценке роли монархии, в том, что они рассматривали японский парламент и министерства как государственные учреждения, независимые от монархии. Монархия в Японии была буржуазно-землевладельческой монархией, которая «довольно умело» представляла интересы обоих классов>39. Можно предположить, что Западно-Европейское бюро, кажется, пыталось высказать следующую точку зрения: монархия не была простым инструментом в руках двух классов, поддерживающих ее, а скорее представляла собой независимую политическую силу, продолжающую осуществлять деспотичную власть за спиной парламента.