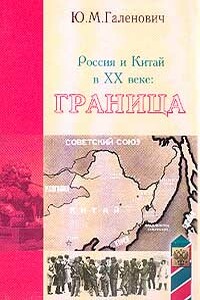Анна Васильевна рассказывала:
— В начале февраля 1917 года мой муж (С.Н. Тимирев. — Н.Ч.) получил отпуск, и мы собирались поехать в Петроград — то есть мой муж, я и мой сын с няней. Но в поезд сесть нам не удалось: с фронта лавиной шли дезертиры, вагоны забиты, солдаты на крыше. Мы вернулись домой и пошли к вдове адмирала Трухачева, жившей в том же доме, этажом ниже. У нее сидел командующий Балтийским флотом адмирал Адриан Иванович Непенин. Мы были с ним довольно хорошо знакомы. Видя мое огорчение, он сказал: “В чем дело? Завтра в Гельсингфорс идет ледокол «Ермак», через четыре часа будет там, а оттуда до Петрограда поездом просто”. Так мы и сделали.
Уже плоховато было в Финляндии с продовольствием, мы накупили в Ревеле всяких колбас и сели на ледокол. Накануне отъезда я получила в день своих именин от Александра Васильевича корзину ландышей — он заказал их по телеграфу. Мне было жалко их оставлять, я срезала все и положила в чемодан. Мороз был лютый, лед весь в торосах, ледокол одолевал их с трудом, и вместо четырех часов мы шли больше двенадцати. Ехало много женщин, жен офицеров с детьми. Многие ничего с собой не взяли — есть нечего. Так мы с собой ничего и не привезли.
А в Гельсингфорсе знали, что я еду, на пристани нас встречали — в Морском собрании был какой-то вечер. Когда я открыла чемодан, чтобы переодеться, оказалось, что все мои ландыши замерзли. Это был последний вечер перед революцией.
Как трудно писать то, о чем молчишь всю жизнь, — с кем я могу говорить об Александре Васильевиче? Все меньше людей, знавших его, для которых он был живым человеком, а не абстракцией, лишенной каких бы то ни было человеческих чувств. Но в моем ужасном одиночестве нет уже таких людей, какие любили его, верили ему, испытывали обаяние его личности, и все, что я пишу, — сухо, протокольно и ни в какой мере не отражает тот высокий душевный строй, свойственный ему. Он предъявлял к себе высокие требования и других не унижал снисходительностью к человеческим слабостям Он не разменивался сам, и с ним нельзя было размениваться на мелочи — это ли не уважение к человеку?
Мне он был учителем жизни, и основные его пожелания: “Ничто не дается даром, за все надо платить — и не уклоняться от уплаты” и “Если что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу — тогда не так страшно” — были мне поддержкой в трудные часы, дни, годы.
И вот, может быть, самое страшное мое воспоминание: мы в тюремном дворе вдвоем на прогулке — нам давали каждый день это свидание, — и он говорит:
— Я думаю — за что я плачу такой страшной ценой? Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачу за вас — я ничего не сделал, чтобы заслужить это счастье. Ничто не дается даром
Что из того, что полвека прошло, никогда я не смогу примириться с тем, что произошло потом. О, Господи, пережить это, и сердце на куски не разорвалось.
И ему и мне было трудно — черной тучей стояло это ужасное время, иначе он его не называл. Но это была настоящая жизнь, ничем не заменимая, ничем не замененная. Разве я не понимаю, что, даже если бы мы вырвались из Сибири, он не пережил бы всего этого: не такой это был человек, чтобы писать мемуары где-то в эмиграции, в то время как люди, шедшие за ним, гибли за это, и поэтому последняя записка, полученная мною от него в тюрьме, когда армия Каппеля, тоже погибшего в походе, подступала к Иркутску: “Конечно, меня убьют, но если бы этого не случилось — только бы нам не расставаться”.
Я слышала, как его уводят, и видела в волчок его серую папаху среди черных людей, которые его уводили.
И все. Луна в окне, черная решетка на полу от луны в ту февральскую лютую ночь. И мертвый сон, сваливший меня в тот час, когда он прощался с жизнью, когда душа его скорбела смертельно. Вот так, наверно, спали в Гефсиманском саду ученики. А наутро — тюремщики, прятавшие глаза, когда переводили меня в общую камеру. Я отозвала коменданта и спросила его:
— Скажите, он расстрелян? — И он посмел сказать мне нет.
— Его увезли, даю вам честное слово.
Не знаю, зачем он это сделал, зачем не сразу было узнать мне правду. Я была ко всему готова, это только лишняя жестокость, комендант ничего не понимал».