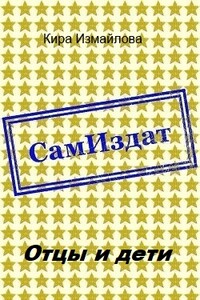— Пришел, наконец. За воду спасибо. Поставь в сенях.
Я зашел в избу. Сбросил обувь, поднялся по ступенькам в длинные сени, поставил воду на длинную скамью вдоль стены и открыл дверь.
Небольшой коридорчик с вешалкой вел в три комнаты: справа, слева и прямо. Слева была кухня. Бабушка хлопотала у русской печки: доставала длинным ухватом горшки, залезала на лежанку, чтобы сорвать сушеных травок, ароматными пучками развешанных под потолком вперемешку с бусами сушеных грибов и чулками луковиц.
Картина была привычной и уютной.
— Я скучал.
Я сел за широкий стол, застеленный клеенкой с цветочным узором, и улыбнулся, увидев разрезанную дырку на уголке — я сам её сделал, когда мне было два года. Бабушка на это только махнула рукой.
— Конечно, скучал, — согласилась бабушка. — Всё бегаешь, работаешь, учишься. Знамо дело, оно надо. Но и родных забывать не следует.
Бабушка чмокнула меня в щеку, бросила на стол доску и поставила передо мной чугунок с вареной картошкой. Как по волшебству рядом появилась квашеная капуста, моченые яблоки, маринованные грибочки и стакан с разбавленным капустным соком. Я запустил руку в чугунок и спохватился.
— Бабуль, ты садись!
— Сейчас чаю поставлю и сяду, — бабушка ловко засунула старый железный чайник в пылающую печку и села за стол.
Странно. Она же всегда чайник на плите грела. Я перевел взгляд на левый угол около печки. Там стоял шкафчик с кастрюлями. Плиты не было — был очаг. Старый, обмазанный глиной, закаленный годами службы.
— Бабуль… — я перевел взгляд на бабушку.
— Ты кушай, внучок, кушай. Вот, яблочко попробуй моченое. В капусте мочила, с корнем солодки. В банке такую не сотворишь, липа — она дух дает!
Я вспомнил огромную липовую кадушку, стоявшую в чулане, и оживился.
— Бабуль, а как ты капусту квасишь?
— Да так и квашу — слой капусты, соль, яблоки, снова капуста, снова соль. Солодки еще добавляю. Секрет в водичке. Её совсем немного надо, чтоб кислоту не сбить.
— Ты какой-то отвар варишь из трав?
— Боль я варю. Болью и замачиваю. Киснет капуста в ней просто замечательно!
— Болью…
Я перевел взгляд на стоящий на шестке горшок с водой, закрытый тряпкой. Бабушка проследила за моим взглядом и принесла его за стол.
— Вот, гляди. Правильно сваренная боль.
В горшке плескалась вода, темно-серая, глянцевая.
— Научи, бабуль!
Заслонка с печи была отодвинута, чайник выловлен бесстрашной рукой с прихваткой. На шесток шлепнулся чугунок.
— Ну, иди за водой. И запомни — вода должна быть живая.
Живая — то есть из природного источника. Я зачерпнул ковшиком принесенной воды, принес её на кухню, наполнил чугунок.
Бабушка вручила мне деревянную ложку.
— А теперь мешай противусолонь и повторяй за мной: боль злобучую, боль ломучую вырываю из себя, закопаю в воду я…
Это была не бабушка. То есть, я видел бабушку, воспринимал её как свою родственницу, но это была не та бабушка, которую я помнил.
— Слова не важны, тут главное — настрой! — бабушка подняла палец вверх. — Ты когда мешаешь, представляй, как боль твоя из тебя вытекает, как вода её принимает и растворяет. Боль из тебя и перетечет. Мешай-мешай. Три по три раза. И повторяй наговор-то.
Я перемешал темнеющую воду, и бабушка ловко поставила горшок в печку.
— А теперь боль должна свариться/приготовиться. Пусть томится до кипения. А потом что хочешь с ней, то и делай — можешь врагу подлить, можешь березу напоить, или, как я, капусту заквасить.
Слово было одно, но смысл почему-то был двойным. Я напрягся, вслушался в бабушкину речь и понял — мы не на русском разговаривали, а на мокшанском.
— Ты не бабушка, — вырвалось у меня.
— Верно, — спокойно кивнула она; её фигура потекла, постройнела, волосы заплелись в темно-русую косу. — Я прабабушка. Всё запомнил, внучок?
— Запомнил. Может, ты хочешь что-то еще сказать?
— Как сегодня из дома выйдешь, так до полуночи не возвращайся, — после короткого раздумья сказала она. — На этом всё. Заглядывай почаще.
И я проснулась.
Я лежала у себя в комнате, в доме Стоунов. Был разгар июля. За окном светило утреннее солнце. Триша мурлыкала у меня под рукой. Сердце колотилось как бешеное.