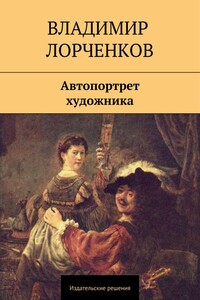Во дворе собрались на ужин все батраки. Сняли с петель дверь в сенях, положили ее на козлы — и обеденный стол готов. Затем хозяин и работники уселись вокруг него.
Вечер был безоблачный и на редкость светлый. Хутор озаряла серебристая луна. На жнивье словно плыла, покачиваясь в копнах, пшеница. В воздухе ощущалась прохлада, опускался легкий туман — предвестник вечерней росы. Кругом стояла ничем не нарушаемая тишина. Слышно было только, как стучали ложки о глиняные миски да чавкали голодные рты. Мирно паслись на лугу возле хутора спутанные кони.
— На, отнеси Йожке! Пусть и он поест досыта, — сказала Маришка молодому погонщику, и тот побрел с едой к своему напарнику, который стерег на лугу лошадей.
— Уже храпит, — сказал парень, вернувшись.
— Вот паршивец, вечно дрыхнет, — зло сказал молодой хозяин. — При такой луне можно было бы и поработать. Обмолотим еще одну укладку и к полуночи закончим. Придет зима, отоспимся.
Работники промолчали. Их клонило в сон. Все очень устали и даже ели вяло, нехотя. А ведь прошло всего три дня с начала молотьбы. Через несколько дней люди втянутся, а пока сил у них не хватало. Тяжкий труд поначалу вызывает ломоту во всем теле, но потом человек привыкает.
— Два года назад работал я летом поденщиком на хуторе Ковачей, — заговорил, очнувшись от дремоты, дядюшка Пали Пипиш. — И вот, помню, в конце августа были такие же светлые лунные вечера. Ну нас, как водится, тоже подгоняли с работой. Как-то ночью навиваю солому на омет. Орудовали мы вилами всю ночь, моченьки уж не было, и я уснул, опершись на вилы. Вдруг просыпаюсь, гляжу по сторонам и вижу: солома, вся до последнего стебелька, навита на стог. А ведь хорошо помню, когда задремал, что рядом со мной еще оставался изрядный стожок. Спрашиваю дружков, тех, кто работал поодаль на току: «Вы навили солому на стог?» Они меня на смех подняли — мол, нашел дураков чужую работу делать. Но что бы там ни было, а ведь сработал кто-то, сам-то я соснул чуток, точно знаю. На другую ночь то же самое приключилось. Ну, думаю, не иначе эти проказники задумали надо мной шутки шутить. Вот я и решил подсмотреть, что-то будет. На третью ночь я долго со сном боролся, но так и не совладал. Заснул. А когда проснулся, солома вся была навита на омет. Тут уж меня зло взяло; зарок я себе дал: на четвертую ночь ни в жисть не усну, даже ежели придется подпирать веки вилами. Но около полуночи навалилась на меня дрема, ну хоть умри. Я уж и так и сяк. Валит с ног, и все тут. Одним словом, не устоял я, одолел меня сон. Но вдруг что-то толкнуло меня, вроде как изнутри, открыл я глаза да так и обомлел: вижу, две пары деревянных вил сами по себе мелькают в воздухе, ни тебе человека, ни тебе еще кого… Словом, ни души. Знай забрасывают солому на верхушку стога, да так быстро, прямо в глазах рябит. Протираю глаза, самому себе не верю. Вдруг вилы раз — и сгинули, как сквозь землю провалились. А возле меня охапка соломы. С той памятной ночи больше уж никто не приходил мне на подмогу…
Эта таинственная история вселила в души сидевших вокруг стола хуторян безотчетный страх. В самом прерывистом, надтреснутом голосе старика было что-то загадочное, завораживающее. Слова, весомые, отрывистые, будто падали на землю, как падают мотыльки, наткнувшись в вечернем сумраке на белые стены построек. В напряженной тишине вроде бы даже слышалось, как ударяются они о землю.
— Должно, приснилось, — с ехидной улыбочкой заключил молодой хозяин, явно желая подчеркнуть свое превосходство над всеми, но и в его голосе слышно было плохо скрытое смущение.
— Какое там приснилось! Доподлинно знаю, что наяву было. Ведь с кумом моим Анти Секером такое же приключилось. Он батрачил на дальнем хуторе, что по ту сторону села. У Кочонди, того самого, у которого кобылка буланая. Разве он мог про эту диковинную историю прослышать? И со свояком то же самое произошло, и тоже на дальнем хуторе. Уж этот-то хутор и вовсе на отшибе стоит. Стоило им только на миг открыть глаза, как видение тут же исчезало и больше уже к ним не возвращалось. Мой куманек Анти справлялся у чейтейского ясновидца. Тот и растолковал ему, что и как. Оказывается, это привидение — один помещик. При жизни он лютым извергом был с батраками, и за это изуверство господь заставил его все ночи напролет работать, до самого Судного дня. Дескать, пусть подсобляет теперь мужикам. И вот он как неприкаянный то к одному подстанет, то к другому. А коли кто его хоть раз приметит, тому он больше не придет подсоблять. Не узри я его в ту ночь, мог бы завсегда спать преспокойно, а он бы работал всю ночь напролет заместо меня, старика…