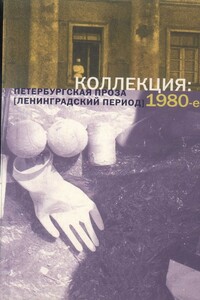— Ты что, дальтоник? — смеялся он.
И она чуть не плакала, думая, что это какое-то обидное слово и оно не имеет никакого отношения к грибам, а скорее к ее поведению. Он остановился.
— А где наши старики?
— Не знаю, — сказала она потерянно, — где-нибудь здесь. — И крикнула: — Надежда Сергеевна, ау-у.
Ей хотелось, чтобы они были недалеко.
— Ау, — раздалось далеко в стороне.
А ей хотелось, чтобы они были рядом и чтоб не повторялось это мучительно-сладкое состояние, когда он обнимал ее.
Утром они вышли за грибами из дачного поселка вместе с двумя милыми пожилыми супругами — учителями на пенсии, живущими по соседству на даче.
— Посмотри, ты что — не видишь? — Он смеялся, показывая ей большой красный гриб на длинной толстой ножке.
Она чуть не плакала и ничего не могла поделать с собой.
— Тебе везет, — сказала она, напряженно глядя себе под ноги и ничего не видя.
Кругом были сосны, ели, начавшие желтеть папоротники. И она сказала:
— Я завтра уеду.
— Почему? — спросил он и, удивленный, подошел к ней.
— Потому что так нельзя себя вести, как я. Мы… Ты… Я замужем! У меня ребенок. А ты?
— Господи, ну и что ж такого?
— А тебе все шуточки!
— Я же очень хорошо к тебе отношусь.
— Ты забавляешься!
— Ну что ты! — Он обнял ее, но она повела плечом и высвободилась.
Папоротник был желтым и светлым на фоне травы и хвои. Он шел за ней и смотрел на ее плечи, на ее загорелые ноги в маленьких кедах. Такая молодая — и уже мать.
— Карл Теофилови-ич! — крикнул он в свою очередь. — Ау-у.
Ответа не было. Теофилович было трудно кричать, и она крикнула просто:
— Дя-а-дя-а Ка-арл!
— Дятел кар-р, — передразнил он, смеясь. — Странная смесь немецкого и французского, — сказал он.
— А они очень милые люди. Вот сразу увидишь и скажешь: интеллигенция.
— Да, — сказал он и засмеялся. — Карл Теофилович. Готье.
— У него фамилия Соловьев.
— Это я так. Соловьев так Соловьев. Теофил Готье был такой поэт.
— А-а, — протянула она.
Ему нравилась ее наивность и незащищенность. Он шел рядом.
— Ты давно замужем? — спросил он.
— Третий год.
— И любишь мужа?
— Раз замужем — значит, люблю.
— Логика, ничего не скажешь!
— А откуда ты знаешь столько поэтов? — спросила она.
— Поэты живут для того, чтобы их знали. Вот, еще один, смотри.
— А вон еще.
Она поставила корзину и наклонилась, у нее перехватило дыхание — он крепко обнял ее сзади. Она выпрямилась и хотела снять его руки со своего живота, но с бьющимся сердцем прижала их сильней. И прижимала их к животу, прижимала. Мешала только ткань! Только ткань! А он все держал ее и не отпускал. И она ничего не могла поделать с его руками. И ничего не могла поделать с собой, сладко поеживаясь от его поцелуев в шею, и ничего не видела перед собой и видела только лес, деревья. Деревья тихо шумели вверху, а у себя под ногами в траве она увидела муравьиную тропу. Муравьи ползли туда и обратно. Муравьиная жизнь! Вон один муравей тащит сухое подкрылышко стрекозы, а другой помогает первому, подталкивает крылышко сзади, и вот забрался сам на крыло и поехал, а первый тащит, не замечает. Она закрыла глаза и глубоко дышала.
«Завтра приедет из города муж, привезет арбуз. Ленке я мяч просила привезти. Леночка!..»
А над головой шумят сосны. Все шумит… И она почувствовала, что он раздевает ее. Как давно забытое. Так мать снимала с нее платьице в детстве. Вот так, руки вверх, через голову. Вверх руки!
И он целует ее загоревшие плечи, целует.
Да, да. Пуговка на лифчике… Как в детстве… Расстегивает их мать. Но не мать, а кто-то другой. И такой же нежный. И целует, целует. Ах, как хорошо и не стыдно! Ни капельки не стыдно! Ведь и он не смотрит, ведь и у него закрыты глаза.
А чьи-то руки ласкали ее все ниже. И вот уже на бедрах, на резинке трусиков и тянут вниз, тянут. Резинка съехала с правого бедра и натянулась. Больно задержалась на левом бедре — тугая резинка. Но кто-то стягивал их, как в детстве, сдергивал, как во сне.
«Мама, я хочу спать».
«Сейчас, маленькая, надо раздеться. Ты больна, доченька, у тебя жар».
«Я хочу спать, спать».
«Сейчас, сейчас, подожди, мы разденемся».
И она закрылась руками. Но кто-то целовал ее руки, гладил бедра.