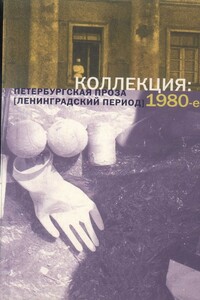Несмотря на то что обстановка квартиры соответствует исторической правде, здесь все-таки присутствует определенный глянец. Наша жизнь встает перед моими глазами, словно это было только вчера. Я вижу своего мужа, сидящего на неубранной постели, с толстой книгой на коленях, а на ней лист белой бумаги с первыми строчками „Рамана“. Он всегда писал в таком положении, стола у нас не было. На кровати сидели приходившие друзья, на кровати мы устраивали немудреные трапезы. Изъеденный жучком шкаф, в котором содержались наши пожитки, портрет Боба Дилана на стене, старенький магнитофон — вот и все наше достояние. На стене же висит сетка с любимыми книгами, подальше от кровати, чтобы в них не забрались клопы, — и все же с кровати до нее можно дотянуться рукой. Вместо тусклой лампочки на заново побеленном потолке — лампа дневного света. Служитель музея оправдывает это непрекращающимся паломничеством иностранных туристов. Как сейчас вижу своего мужа в затертых вельветовых брюках, грязной майке и драных носках. Собираясь в гости, он надевал единственный костюм, который бережно хранился в шкафу до тех пор, пока его не сожрала моль. Из окна открывается прелестный вид на парк и старинную церковь, а раньше здесь был проходной двор, в грязи которого утопали машины. По-прежнему уборная отделена от нашей комнаты тонкой деревянной перегородкой (хоть и свежевыкрашенной). Соседи проходили туда через нашу комнату, к чему мы быстро привыкли, тем более, что по ним можно было проверять часы. Два слова о соседях. Спокон веку, еще до рождения Лапенкова, здесь жил милиционер с любовницей, бывший уголовник и старик старьевщик, собиравший по квартире мусор и сдававший его в утиль. Мой муж рассказывал, что начала этому он не упомнит: милиционер неустанно жил с одной и той же любовницей, уголовник считал себя бывшим, а старик варил купленную на вырученные деньги тухлую капусту и запивал ее политурой. Соседи также родились в этой квартире, здесь они выросли, состарились и умирали в запертых комнатах. По неделям гнили их трупы, но, привыкшие к вони, мы не скоро это замечали. Не хочу сгущать краски и говорить, что мы жили в крайней нищете. Не совсем, иногда, когда у нас заводились деньжата, мы покупали у мальчиков, ловивших рыбу в Обводном канале, так называемую кобзду, приглашали друзей и закатывали пир…»
ВЫДЕРЖКА ИЗ ШКОЛЬНОЙ ХРЕСТОМАТИИ ЗА КУРС ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
«Владимир Борисович Лапенков всю жизнь страдал зубной болью. Желая избавиться от нее, он поочередно выдрал себе все зубы, но тогда у него стали болеть десны. Отчаявшись, он попытался отрезать себе голову, но сделал это так неудачно, что заболел и умер от заражения крови. Страна потеряла своего величайшего сына.
Ребята! Следите за своими зубами, своевременно посещайте врача, и вас не постигнет участь гения».
«В. Б. Лапенков не любил говорить о себе, он утверждал, что музыка его книг (по ошибке он называл свою прозу музыкой) сама скажет все, что нужно. Но как-то за кружкой водки он разоткровенничался и признался, что Александр Исаевич Солженицын однажды спас ему жизнь, прикрыв грудью от пули экстремиста, с возгласом: „Убейте меня, но Искусства вам не убить!“ Впрочем, Александр Исаич еще долго здравствовал, так как выстрел был холостой».
Из сборника «По следам Лапенкова», глава «Швейцары рассказывают…» (Гренландское изд-во «Чудовищная литература»)
Ла — пенков! Суперстар!
Открываем мемуар,
Ла — пенков! Сверхзвезда!
А там — вареная кобзда.
Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л
Если бы мальчику, неохотно вышедшему из-под прикрытия смеющейся листвы, сказали, что через несколько лет, таким же июльским вторником, он в обществе двух ревнивых подруг будет ехать к приятелю, чтобы говорить с ним об Эуригене, Тертуллиане, Клименте Александрийском, Лиутпранде Кремонском и Бернарде Клервосском, пересыпая свою речь цитатами из Прокла и Экклезиаста, то призрак самоосуществления, предложенный грядущими свидетелем, лишь пронзил бы его еще одним неясным импульсом боли, но мальчик, огороженный неоконченностью лета, погружал свой страх в плотно-зеленую дымь знакомства с сыростью рощи, где пряная одурь хвощей усиливала тошноту, соблазняла истомой безвременья, внесуществованья, пахучестью мягких ворсистых бугров меж деревьями, опутывала тишиной, но что-то (что именно?) отрывало его от вязкого зова земли, заставляло уйти, и выход из леса был схож с медленным постыдным раздеваньем, наполнявшим тревожно-острой беззащитностью каждую клеточку обнажаемого тела, а мальчик понял, что его вело, только когда сел за колченогий стол, покрытый грубой клеенкой, открыл толстую тетрадку и, пролистав несколько страниц, четким почерком написал: