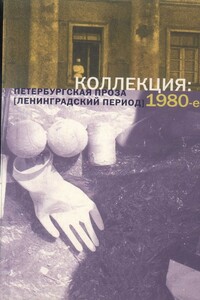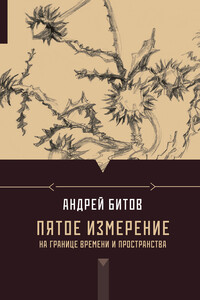Да, я почти что привел его. Прочтя твою записку, он рассмеялся удивленно: «Вот неожиданность! Неужели та девчушка, светлые локончики? Приду, сегодня же, после концерта! А эта улица — где же?» — И я рассказал дорогу и даже нарисовал для верности твой дом, мост, фонарь и липовую рощу. И подумал, что за стволом липы хорошо укрыться.
Надеюсь, меня не осудят слишком строго за то, что не предупредил его об уличной грязи, столь неприятной ночью. Тем более что я тут же устыдился, отомстив так мелко. Но что говорить об этом, если я сделал промах безмерно больший! Я не объяснил ему, что ты еще дитя, что первый раз ошеломителен даже для мужчины… Боюсь, он поторопится. Боюсь, он не будет достаточно осторожен и бережен с тобой. Он будет слишком скор, с его ногами бегуна-рекордсмена, — мимо, мимо, только бы разорвать ленточку! Я — нет. Пусть руки пройдут долгий, долгий путь — выше-выше и ниже-ниже, пусть обучатся на подъемах и спусках, умнея с каждым поворотом. Откровение нисходит на меня: например, в аптекаре я обрел бы единомышленника. Вот кто, неистово вожделея, сумел бы выжидать, бесконечно оттягивать. Судья — тот вычертил бы график. А насмешник? Но нет, насмешники не умеют любить, и в этом — мщение. Так. Я отдаю тебя на пробу змеям, быкам и драконам — всем, кроме себя. Этих уроков ты у меня брать не будешь. Правда, я не искусник, не виртуоз, но знаю нечто. Вот детская книжка с картинками: черные контуры на белой бумаге, а ты раскрась сам. И, пожалуй, прибавь что вздумается, на что и намека не было: из оранжевой трубы пусти струю синего дыма, нарисуй в желтом кругу зеленые цифры и стрелки: почему бы солнцу не быть часами! Дерево, выросшее на пустом месте, голая земля, ставшая садом возделанным, где прогуливаешься, рифмуя «тень — сень». Стереги, обихаживай виноградник — соберешь урожай. Разрисованная смерть: коса, белое одеяние, конь, факельщики, оркестр… Суп из топора, из колбасной палочки. Ведь она — ничто, только краткое и грубое мгновение — как то, другое… Не мысль, не ощущение. Нет того, что я хочу назвать. Но я произношу слово, и оно воплощается — не иначе, однако, как после долгих, рачительных, искусных приготовлений.
Ты не веришь? Мне только теперь приходит в голову, что ты могла ведь и не принимать меня всерьез, молча выслушивая наставления. Но моя ли вина, если это действительно так? Смотри, я ничего не выдумываю: Зигфрид кует меч, идет в пламя ради одного поцелуя. Моцарт — кто более достоин веры и любви?! И он похищает Памину у матери, чтоб она не досталась первому встречному, а избранник Тамино должен пройти огонь и воду и все дьявольски изогнутые медные трубы в хоральной фуге второго акта. И это еще не так много: ему не надо сверхчеловечески напрягать силы в поисках идеала! Возлюбленный идеал стоит рядом, безмолвно обратив к нему лицо, пока претендент совершает необходимые упражнения. Всегда, непременно durch Leiden Freude[18] или длительный охмуреж, как говорилось на богохульном языке моей юности. Повторяю, тут традиция, а не мое мазохистское измышление.
— Не мне говорить о музыке, когда музыкант — он? Но ведь и я был, был… Нет, с ним ты ничего не узнаешь. Слепая, слепая, лежи — навзничь!
Ты сама открыла мне утром; ты стояла в рамке двери, чуть наклонясь вперед, глаза сужены — так вглядываются близорукие; но это я, кого ты ждала, — так, вверх брови, кликнув за собою веки, и вот серые глаза раскрыты, ты узнаешь меня, и удивляешься, и радуешься, что это я, кого ты ждала, и пока еще никого, кроме меня, которого ты ждала. Улыбка; ты наклоняешь голову, тонкая рука привычно поднимается к черному узлу волос на затылке. Да, он радовался, но он не узнал, не вспомнил тебя. Я упоминаю об этом не со зла: думаю, и ты не рассердилась бы, мало ли в школе было девчушек, белокурых и черных, и столько лет прошло. Волосы у тебя прямые, блестящие; если будешь тонуть, легко схватить, намотать на руку. И вытащить тебя из воды нетрудно будет, костлявенькая, без округлостей. Как-то он прижмет твои косточки, и шейку обхватит первым и третьим пальцами… а я распустил бы твой узел, рассыпал бы твои волосы, — помнишь, Марта заставляла тебя убирать их со лба: ишь, воронье гнездо, застреха! Шестнадцати лет ты подрисовывала себе глаза; я решил «не заметить», а ты встретила меня с волнением: что скажу?.. Его преподобие Шонгауэр, придя на урок, нахмурился за то, что дщери племени сего ходят размалеванные — и к тому же разбрасывают в беспорядке книги и тетрадки… И через день ты вышла к нему, вскинув голову и крепко сжав губы — густо, неумело намазанные. Добрый пастырь смирился. «У нее нет матери, — сказал он мне, вздыхая, — надо быть снисходительным. О, это дитя уже хочет нравиться!» Я понимал твое строптивое кокетство, но сердце замерло; если бы ты захотела нравиться мне!..