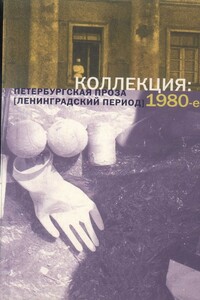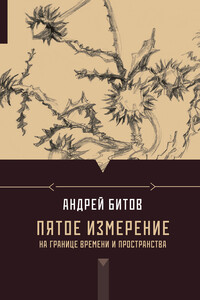Татьяна Левина подошла ближе, долго не решалась спросить и наконец сказала: «Разве американцы применяли атомную бомбу в Корее?»
— Я бы хотела посмотреть отметки Сталины, — сказала в это время генеральша.
В ожидании матери толстая, уже укутанная Сталинка околачивалась в полутемном вестибюле. Прозвенел звонок с урока. Сверху нарастал шум. Сталинка сделала вид, что читает огромную мемориальную доску с золотыми буквами. Татьяна Левина все еще топталась в недоумении, тут налетели сверху старшие, смелые, отчаянные второклассницы, может, даже из третьего, увидели Сталинку, закричали весело — вот она, вот она! ябеда! — и бросились к ней. Она стрельнула глазами наверх, мамаши видно не было, и вылетела на улицу, беги, Сталинка. Все кинулись за ней. Второй «а» гнался за Сталинкой по Баскову, без пальто, швыряя ей под ноги портфели. Она пробежала вдоль школы и махнула через дорогу — жила она напротив. В это время автобус заворачивал в переулок, все закричали ей, чтобы она остановилась, но она уже была у своей подворотни.
На следующее утро Татьяна Левина брела в школу, волоча тяжелый портфель. Она опоздала. Весь Басков был уже пуст. Под окнами вторых этажей висели траурные флаги. Был день памяти Кирова.
Она шла вдоль длинной кирпичной казармы, думала о Кирове, мальчике из Уржума, заглядывала в окна. Через неплотно запертые ворота, у которых стоял часовой, виден был узкий двор, в глубине его она увидала пушку. Часовой посмотрел ей вслед и сказал: «Ножки как у рояля». Она удивилась, откуда он знает, что ее учат музыке.
Занятий музыкой она не любила. Кроме отвращения от самих уроков и страха предстоящих концертов, обидно было чувствовать проходящую без нее жизнь. Представлялось, что мир делится на тех, кто должен заниматься музыкой и кто обходится без нее. Ей казалось, что почти все из ее класса, со всех знакомых дворов и прочитанных книг, были счастливее и свободнее ее. Раз настоящая, грубая, смелая жизнь проходит без нее, она все жаднее вчитывается в описания жизни. Даже в пионерском лагере, несмотря на все просьбы, она никогда не была. Чтение стало запойным («дыши свежим воздухом» — говорилось ей, когда она выходила из дому в музыкальную школу, вся дорога до следующего подъезда занимала три вдоха).
— Я человек конченый, — думала часто Татьяна Левина, — благонравная жизнь так и протащится нотной папкой по пыли (ей даже нравилось мучить себя этим, нарочно волоча почти по земле ненавистную папку).
Однажды она вдруг брякнула на перемене ужасную вещь, за что всем классом ей был объявлен бойкот. Она почему-то наврала, что ее отцом был писатель Гайдар. Писатель Гайдар погиб за несколько лет до рождения Татьяны Левиной и всего первого «бэ». Но никто из ее одноклассниц подсчетами заниматься не стал, они просто молча отошли.
Это странный случай, и тут есть о чем подумать. Заменив собственную жизнь вычитанной, она вломилась прямо в художественную ткань, но, чтобы как-то закрепить переход в эти шаткие области, пришлось обзавестись надежной отцовской рукой.
Да как же язык у нее повернулся сказать такое при живых родителях! Так иные охотничьи собачонки, бросив своих верных хозяев, вдруг уходят с незнакомым гостем, почуяв в нем настоящего охотника.
Около школы уже почти никого не было. Уроки начались. Изо всех сил спешили к дверям незнакомая хромая девочка с матерью. Мать несла ее портфель. Татьяна Левина тоже было побежала, но остановилась, постеснявшись их обогнать, и пошла сзади, жадно разглядывая бедную девочку. Девочка была в шароварах, заправленных в розовые от школьной мастики валенки. Куда они идут, директор Сурепка велела всем ходить в ботинках.
— Не ходите, вас не пустят! — крикнула Татьяна Левина, догоняя их. — У вас валенки.
— Нас пустят, — строго сказала мать некрасивой девочки, — нам разрешили.
Никто из их класса Сурепку никогда не видел, правда, некоторые утверждали, что она ходит в желтом платье, больше про нее сказать никто не мог, желтый сорняк в однообразном, хорошо обработанном поле, она находилась так далеко, что была безразлична.
Зато все боялись, уважали, любили черную Ксению Алексеевну, завуча начальных классов. Какая она аккуратная, подтянутая, всегда в строгом черном одеянии, наробразовский покрой, как мы ее любим, наверно, и тогда она так же медленно поднималась по широкой лестнице и гимназистки умело здоровались, как это — легким поклоном головы — вот так.