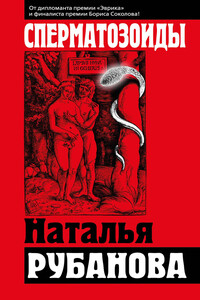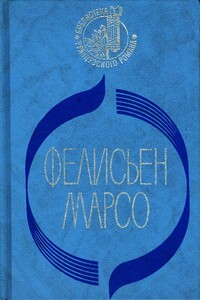И вот я ему, значит, говорю: «Все, мой хороший. Не могу больше. Давай друзьями будем, нет сил на любовь, веришь?» А он голову руками обхватил и раскачиваться стал из стороны в сторону: «Натали, Натали, что ты несешь?» — «Крест несу — безжалостно так отвечаю. — Волоку просто ненормированно».
В общем, сцена еще та, со слезами и потенциальной сединой; а институт уже закончен, а дача в прошлом, а мама мечтает выдать непременно за юриста.
Но что-то у меня свербило внутри, никак не могла в себе разобраться, никак совершенно: долгими вечерами лежала я на диване, запершись в комнате, и пыталась понять, что же произошло. Я никуда не ходила, ничего не читала, даже магнитофон уже не слушала, тщась понять, как же Колобок до всего этого маразма докатился. Глупо! И корвалол. И Пашка ведет себя корректно, другом прикинулся, не звонит часто, и редко — тоже не звонит. И вот уже вообще — номер как бы забыл. А мне тошно: родители ругаются, подруги в замужестве, плюс отпуск в городе, без капли соленой морской воды… Ужас! И хожу я по городу растерянная, по лужам шлепаю, прохожих задеваю, и продолжается это бог знает сколько, и страшно раздражает, и город пустым кажется… без Пашки, потому как ценится преимущественно утерянное, по нормальному-то у меня не получается, чтобы от настоящего момента кайф ловить — нет! — всегда чего-нибудь эдакого подай; и я по электронной ему пишу: «Типа, прости», а он не отвечает; номер его набираю, а никто трубку не берет, и так — в любое время суток. Я звоню его деду: так и так, Николай Иваныч, найти не могу; где?!
А дед отвечает: «Уехал». Я: «Куда?» Дед: «Не велено». Я: «Что «не велено»?» Дед: «Говорить не велено».
Я пугалась, путалась, ездила в Купавну, но все было без толку: Москва без Пашки была удивительно пустой и ненастоящей, как карточный домик. И удивительно ненужной — даже представить то воспоминание страшно.
Так прошел год; мама познакомила меня с сухим нудноватым юристом: мы встречались пару раз в гостях и в театре; мысль о том, что с юристом придется когда-нибудь переспать, приводила меня в бешенство; мы расстались, несмотря на мамины увещевания о стабильной и умной жизни за каменной стеной.
— За каменной решеткой! — крикнула я ей.
— За какой еще решеткой? — не поняла, как всегда, она. — Что ты городишь?
Я раскладывала пасьянсы и вспоминала Пашку; в сущности, я ведь не знала, что он исчезнет. В сущности, я просто ничего тогда не знала о любви: что ее желательно беречь, не перегревать, не давать замерзнуть и просто иногда поить чистым… Как и не знала, что вернется Пашка в грустный день моего зачемточного рождения.
— Где же ты был целый год? Где пропадал? — я висла на его шее, на его родной такой шее. Пахло дешевым табаком.
Он ничего не отвечал, а только вытирал мне щеки: «Глупая». И улыбался — совсем как раньше, когда мы целовались в Малом Дровяном переулке, где до сих пор стройка…
Только вскоре он почему-то сделал мне на новом электронном адресе пароль User, быть может, намекая пользователю любви слишком тонко на что-то; а сына мы назвали Дениска; это так странно — сын Дениска…
А росту был невысокого.
Худенький, щупленький, с непропорционально выдвинутой нижней челюстью и вовсе не античным носом. Зимой ходил в огромной шапке какого-то невиданного зверя, наверное, самого йети, и голова от этого казалась неправдоподобно ненужной. Мечтая о большой и чистой, постоянно не на тех попадал: перед Линой его любовью была женщина раннего (сорокапятилетнего) климакса; он устал от скандалов и приливов крови к ее щекам.
Потом долго страдал, читал — мудрых и не очень — философов, философствовал сам, но не запил: не из тех был: чай крепкий заваривал.
Ходил на работу — сантехнику менял; готовил ужины полусумасшедшим родителям: а жили потому что в хрущевке вместе.
Да однажды невмоготу человечине пришлось, и стал он у друга своего закадычного канючить: познакомь да познакомь с кем-нибудь — скучно, тошно, свет белый не мил, женщина нужна — спасу нет. А друг — неформалыцик, пофигист закрученный да разведенный, пьет и покуривает что-то серо-зеленое по случаю, и девица у этого друга — кровь с молоком: щечки розовые, глаза большие, ресницы крашеные, каблучки там всякие, шарфики. И у девицы этой подруга как раз есть: и тоже там — шарфики, каблучки, глаза большие, да будто бы бледна, — в одиночестве полугордом месяц с лишним провела, в любовях больших разуверившись. И вот звонит ей та, что кровь с молоком: так, мол, и так, Линочка, стрелка забита на шесть, пора кончать с холостой — идем в традиционный театр.