Казалось, дырки располагались совершенно хаотично, но на самом деле в них был идеальный порядок.
– Вижу, – я покрутил картонку в руках.
– У нас таких – больше сотни. Это все кандидаты в ЦК. – Саша забрал карту. – В каждой из них дырки по графам: год рождения, семейное положение, партийность, профессия… там много критериев. Кладем все перфокарты одну на другую, берем спицу, – Саша порылся в ящике стола и действительно достал тонкую вязальную спицу, – и протыкаем перфокарты по первому признаку: семейное положение. Нам нужны ребята серьезные, а значит, женатые и желательно – уже с детьми.
– У меня двое, – рефлекторно ответил я.
– Вот, – Саша кивнул. – И при этом тебе всего 26 лет. Значит, серьезный благонадежный парень. Смотрим дальше – партийность. Отсеиваем всех, кто не член КПСС. Потом – возраст. Убираем слишком молодых и «возрастных». Профессия… В общем, – Саша рассмеялся, – когда мы прогнали перфокарты по всем признакам, выяснилось, что никого, кроме тебя, и нет.
Так я стал инструктором ЦК ВЛКСМ.
– Эдик, давай лучше я сам тебе расскажу, как тут у нас все устроено, чем ты шишек себе набьешь, – заведующий архивом ЦК комсомола Виктор Дмитриевич Шмитков махнул рукой – мол, заходи в архив.
Невероятный человек. Помимо подробных сведений обо всех бывших и нынешних работниках ЦК ВЛКСМ он еще собирал и байки. И охотно делился с новичками не только официальным сводом норм и требований, но и «десятью заповедями» – негласными правилами, которые, как это часто водится, значили намного больше «гласных».
Понятие десяти заповедей комсомольцы, конечно, «списали» из Библии, причем прекрасно это понимали и в некотором роде даже гордились.
– Так вот, Эдик, – завархивом налил себе чаёк, – первая заповедь: «Не важно, кто. Важно, кто первый». А я тебе сейчас поясню, ты сиди-сиди, – Виктор Дмитриевич остановил мой порыв встать со стула. – Вот представь: поехали два работника ЦК в командировку – завотделом и инструктор. Там напились и подрались. Вернулись в Москву. И инструктор первым, еще не заходя к себе в кабинет, пришел к Тяжельникову и рассказал ему: «Евгений Михалыч, такая история приключилась – этот напился, полез в драку, вел себя совершенно недостойно звания комсомольца… Мне пришлось его усмирять. Вот, синяк под глазом…» Потом к Тяжельникову пришел и завотделом – но его уже никто не слушал. Сняли с работы – и дело с концом.
– Хм, – я вздохнул, не зная, как прокомментировать сказанное.
В животе стало тоскливо – я сам никогда в жизни не поступил бы так, как поступил инструктор. Это не то что против моих моральных принципов – это как дышать углекислым газом, когда легкие твои «откалиброваны» под кислород. Видимо, в комсомоле мне будет несладко…
– А теперь, Эдик, вторая заповедь. – Виктор Дмитриевич словно не заметил моего замешательства. – «Не важно, что. Важно – вовремя». Дали тебе, – он отхлебнул чаю, – задание. Статью написать, отчет, подготовить мероприятие. И вот ты, молодой и ретивый, стараешься сделать как можно лучше. Стараешься, работаешь, сроков не замечаешь… А сроки-то и прошли. А ты ничего не показал. Так вот, это неправильно. Подошел срок – покажи, что есть. Пусть недоделанное. Пусть сырое. Пусть тебя закритикуют, разложат на лопатки – но все увидят: Сагалаев работает. Согласен?
Я кивнул:
– Согласен.
И понял, что совершенно искренне кивнул. Это действительно разумный принцип: даже если работа еще не сделана, но срок установлен, нужно показать, какая именно ее часть уже выполнена. Возможно, сроки изначально были нереальными. Может быть, ты неверно понял задачу. Может, тебе предложат помощь. Но оставлять руководство в неведении – последнее, что можно придумать для собственного спасения.
– Ну и хорошо. Переходим к третьей…
Заведующий архивом рассказывал заповеди, я слушал его – и все точнее и детальнее вспоминал роман Александра Зиновьева «Зияющие высоты».
Вообще, странное это было время. Мы работали в ВЛКСМ и свято верили в идеалы социализма. При этом читали запрещенные издания и не менее свято верили, что это нормально: читать «запрещенку» дома и говорить правильные слова на комсомольских собраниях.
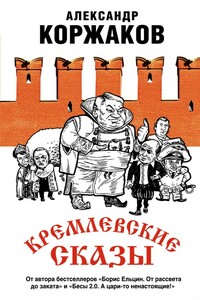

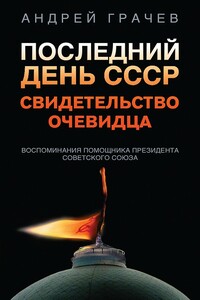
![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)

