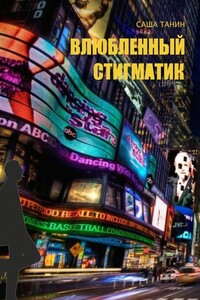* * *
У них в доме не было стульев. Последний сломался в день нашей свадьбы, когда Иринкина тётя залезла на него, чтобы достать что-то откуда-то сверху.
Было два дивана, два кресла и четыре белые табуретки. На одном диване спали мы, на втором тёща. Тесть спал на кровати. Кресла стояли в проходной комнате, единой в своей многоликости: буфетная, гостиная, гардеробная, спальня… А табуретки стояли на кухне.
Тесть был беззаботным и безответственным мужиком, но весёлым и компанейским. У него была ужасная традиция, доводившая всех просто до истерики. Он дожидался летом самого жаркого дня (как он его угадывал — никто не мог постичь!) и красил всё, что было не прибито. Например, кухонные табуретки.
Ежегодно в яркий солнечный день эти четыре страдалицы сияли ослепительной белизной на таком же ослепительном балконе. В этот день надо было срочно эвакуироваться, потому что дышать сохшей краской в жару удовольствие то ещё!
Уже потом, когда тесть скончается от рака, семнадцатилетний Дима скажет матери:
— Табуретки теперь каждое лето мыть будем…
* * *
С Ириной мы встретились в пионерском лагере. Она работала там старшей вожатой, а я радистом.
Сначала мы встречались по роду службы. Потом, разговорившись, нашли массу общих знакомых. А затем, как-то незаметно для себя, я стал думать о ней в неожиданном направлении. Что при этом думала Ирина, я не знал и, скорее всего, никто не знал и не узнает.
В конце концов, я предложил ей выйти за меня замуж.
И она не отказалась.
— Как мы назовём ребёнка?
— Дмитрий.
— Ты так уверена, что это будет мальчик?
— Я это знаю.
— Интересно, откуда?
Ирина промолчала.
* * *
Димка родился болезненным. Первые полтора месяца своей новорождённой жизни он вместе с матерью провёл в больнице. Да и после выписки, планово посещая каждого специалиста, мы выслушивали страшные диагнозы.
— Что мы будем делать со всем этим? — растеряно спрашивал я.
— Жить дальше! — твёрдо отвечала Ирина
И мы жили.
И Димка выправлялся, превращаясь в замечательного здоровенького и весёлого карапуза.
* * *
Ирина меня не переделывала. Просто говорила: «мне это не удобно».
— Где мы будем жить? — спросил я её, когда мы подали заявление.
— Мы будем вместе жить?
— Ну, когда поженимся…
— А зачем?
— Но ведь тебе будет трудно одной заботиться о малыше, — растерялся я. — Я должен…
— Ты мне ничего не должен. Как и я тебе. Но давай попробуем. Мне удобней жить с моими родителями.
Она просто озвучивала возможные альтернативы, а я выбирал ту, которую сам считал правильной.
«Ты можешь пить, сколько хочешь, но тогда ночуй у матери». И мои возлияния стали эпизодическими.
Только один раз, когда Диме было четыре года, она почти не оставила мне выбора.
— У нас с Димой своя налаженная жизнь. Не нравится — уходи.
И я ушёл.
* * *
День просто замечательный. Тепло, но не жарко. Солнце светит, сосны шумят, облака лениво болтаются в голубеющем небе. Иринка занята, — у неё день закрытия смены. А мы с Димой наслаждаемся бездельем.
От души выспавшись, мы завтракаем и идём в лес. Димыч ищет и поглощает чернику, бегает, прыгает, словом ведёт осмысленную жизнь трёхлетнего человека с чёрным от ягод языком.
А я смотрю на него, и мне не скучно. Я наслаждаюсь каждым его жестом, всеми эмоциями, фонтаном бьющими из глаз. Я счастлив как никогда. У меня есть сын, я его почти вырастил: он ходит, говорит, хитрит, чувствует. Он живёт!
— Отгадай, чего я хочу? — спрашиваю я у Димки.
— Ты хочешь кушать! — кричит он, бегая между тремя соснами.
— Как ты отгадал?! — изумляюсь я.
Кудрявый малыш останавливается и неподдельно удивляется:
— Папа! Мы с тобой так похожи! А я хочу кушать.
Я подхватываю его на руки, прижимаю к себе и целую в правое ушко, которое отличается от моего формой и посадкой.
Я сажаю сына на плечи, и мы шествуем в столовую, где уже встречаем Ирину. Втроём обедаем и решаем на лодке перебраться на другой берег, где песок и вода чище.
Ирина сидит на песке, блаженно бездельничая. У неё был суматошный день. Мы с Димкой бегаем по мелководью, шлёпаемся. Брызги разлетаются в радиусе трёх метров. Сынуля заливисто хохочет, запрокидывая кудрявую головёнку.