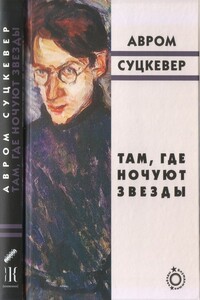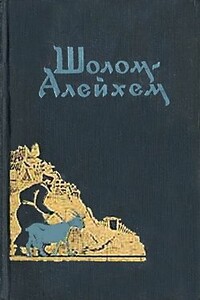— Такие люди, как я, или становятся кафешантанными певичками, или лишают себя жизни…
Акушерке стало от этих слов как-то не по себе. Она принялась суетиться и начала собирать в кучку носовые платки.
— Как вы думаете, Миреле? Не грех бы мне взяться теперь за работу и постирать платки?
Но Миреле, не слушая, все возвращалась к своему:
— Только жаль, что для кафешантанов я не гожусь — не умею ни петь, ни смеяться… Что же касается самоубийства…
Она изогнулась, лежа, всем своим стройным и гибким телом так, что кровь прихлынула к ее щекам, обнажила руку до самого плеча, оглядела ее со всех сторон и стала медленно поглаживать.
— Такие красивые руки… Мне становится их жалко всякий раз, когда подумаю о самоубийстве…
Акушерка вдруг спохватилась, что забыла купить в городе сардинки. Она бросила в сторону связанные в узелок платочки и чуть не бегом помчалась в город.
— Ну, и голова же у меня в последнее время… Миреле ножки протянет на моих харчах…
Очутившись в городе, она не забыла на минутку забежать к помощнику провизора Сафьяну за новенькой, только что вышедшей книжкой для Миреле. Но Миреле отнеслась к книжке с полным равнодушием; рассеянно взяла ее в руки, не меняя своей позы, монотонно прочла вслух первые две фразы и тотчас же выронила из рук, как ненужную вещь, а потом снова принялась со странной тоской глядеть в окно, и тоскливо прозвучали ее слова:
— Все писатели любят начинать свои книги рассуждениями о чьей-то печальной весне и только растравляют человеку его раны.
Она помолчала, вздохнула и снова заговорила:
— Когда на сердце легко, прощаешь это писателю и читаешь его. Но когда находишься в таком угнетенном состоянии, как я теперь, каждая фраза книги кажется надоедливой мухой, которая то и дело садится на нос и дразнит: ага, плохо тебе… плохо… плохо…
Но как-то вечером случилось, что акушерка взяла в руки маленькую старинную книжечку «Dicta sapientium» — подарок старой помещицы-католички, подсела с этой книжкой на кровать к Миреле и принялась читать испещренные пятнами от слез сильно пожелтевшие страницы, переводя каждый стих по приложенному к книге подстрочнику:
— Omnis felicitas mendacium est…
Казалось, что обе девушки отсиживают по еврейскому ритуалу траур и читают друг другу Книгу Иова, утешаясь: бывают на свете горшие несчастия, чем наши.
От этого чтения как-то уютнее стало в освещенной комнате, и на время исчезла прежняя подавленность. Акушерка даже набила себе, улыбаясь, папироску над коробкой с гильзами, потом, закурив, подсела снова к Миреле на кровать и принялась вспоминать своего друга-писателя.
Он однажды сказал ей: «Счастливых людей можно теперь встретить разве лишь среди коммивояжеров. Это, конечно, ужасно досадно, но мы можем утешать себя мыслью, что они за игрой в карты не видят вовсе своего счастья».
Обе девушки немного помолчали и со злорадным чувством подумали о коммивояжерах:
— Да, эти люди совсем не сознают, что они счастливы.
Миреле даже улыбнулась:
— Это хорошо.
Но какая-то странная и слабая была эта улыбка и походила скорее на гримасу, которой искажается лицо человека перед плачем.
В городе между тем не переставали чесать языки по поводу переезда Миреле к акушерке. В доме Бурнесов царило ликование, и весело встречался каждый гость, который мог сообщить какие-нибудь новые сведения об этом событии:
— Ну, что слышно? Не узнали ли чего-нибудь новенького?
Реб Гедалья был вне себя и все толковал своему наперснику-кассиру:
— Скажу тебе правду: я уже жду не дождусь той минуты, когда вернется Гитл; она уж что-нибудь придумает, как-нибудь уладит… не правда ли?
Растерянный, встревоженный, метался он по дому, передвигая то вверх, то вниз золотые очки:
— А не телеграфировать ли Гитл, чтоб поскорее приехала? Как ты думаешь?
Был чудесный, солнечный день поста Эсфири[11]. В воздухе чувствовалась почти весенняя теплота, и на ослепительно белой широкой пелене снега играл под солнцем бесчисленными серебряными и алмазными искорками легкий морозец.
Днем приехала за акушеркой бричка от местной помещицы; помещица в письме просила акушерку приехать, если она не занята: нужно было о чем-то посоветоваться.