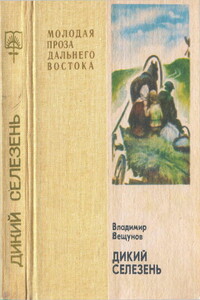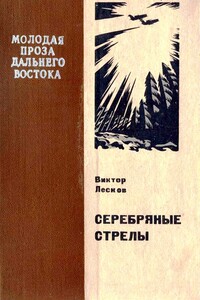— Чего думать? Пусть их едят — они хлеб высекают.
Раздолинский хмыкнул неопределенно, и мы разошлись.
Уже входя в сенцы, я услышал, как под навесом, угрожая Раздолинскому за Лиду, загорланил Костя:
Не ходи на улку нашу,
А придешь — то поскорей.
Тебе морду разукрашу,
Нацепляю фонарей.
Я нащупал в сенцах кринку с молоком. Потом потихоньку, чтобы не услышала мать, прошмыгнул в чулан к постели. И, уже засыпая, я торопил ночь: пусть она приходит скорей, а завтра, может быть, отец меня возьмет в степь пахать, а если не возьмет, то буду полоть с матерью морковку, да еще в рощу надо сходить. А там к Лиде… С Раздолинским — на угорчик…
В прошлую зиму нас учил Николай Иваныч Рыбин. Зайдет, бывало, в школу, борода и усы в сосульках, погреется у печки, выведет на доске слова, какие проходили по букварю, скажет:
— Ну, ребятки, поучитесь пока без меня, а я пойду дровишки дорублю.
Вскоре заглянет в дверь.
— Петь, там тебя обедать кликали — иди перекуси. А ты, Серьг, пойди управься по хозяйству — мать-то хворает. Ко второму уроку возвращайтесь.
Мы успевали и домой сбегать, и поучиться, и, набесившись, посдвигать все парты. Но заходил Николай Иваныч, и мы притихали, рассаживались, а он долго тер озябшие пальцы, разматывал шарф, попутно заглядывая в наши тетради.
— Вот и хорошо, ребятки, славно, — вынимал костяной гребешок, причесывал усы и бородку. — Поработали, а теперь привздохнем, займемся историей, так сказать, неписаной, которую вывели ваши отцы штыками да шашками. Где мы остановились-то?
— У села, когда окружали! — подсказывали всей школой.
— …Значит, заперли мы колчаков в селе Горбуново — это в двадцати верстах отсюда. Командир наш Мамонтов большим партизанским войском командовал: атакуем, говорит, ночью. Колчакам-то в селе тепло, а мы в снегу пурхаемся — сами знаете, какой у нас февраль. Да… Ночь, падера[1]… Кавалерия пошла первой, а тут и мы. Максиму-то Нилычу тогда пулей плечо разворотило. А казаки ихние наготове по гумнам стояли…
В классе тишина. Только чуть скрипнет кто партой, да снежная крупка постукивает по замерзшим стеклам.
— Ребятки, — спохватился Николай Иваныч, — вторая смена! До завтрева.
С каким нетерпением ждешь завтрашнего дня, чтобы ни свет ни заря побежать в школу!
Он часто нас водил «на землю» полоть совхозную картошку и хлебные поля. Николай Иваныч на нас никогда не ругался и не подгонял в работе.
— Может, отдохнем, ребятки?
— Нет, еще, еще! — кричали мы.
— Ну еще, так еще, — соглашался он. — Где труд, там и радость.
Он вообще любил пословицы и прибаутки, и выходили они у него не назидательно, к месту, мимо ушей не проскакивали, запоминались навсегда.
— Чисто прополем, будет хлеба вволю, — говорил Николай Иваныч.
Почти каждому сорняку он давал такую оценку, что руки сами просились его рвать.
— Овсюк не овес — сущий кровосос. — Или: — Сурепка тянет соки крепко.
Сколько у меня было учителей, но всех их в моей памяти наглухо заслонил собой Николай Иваныч Рыбин, который и учил-то меня всего две зимы.
Я родился в прохладный полдень на жатве, можно сказать, с миром природы в глазах. Мне кажется, я помимо свой первый час — и тяжелое подчерненное облако, и посвист ветра в стерне, и мельтешенье колосьев, и усталые потные лица людей. А немного позже выполз: за порог — и уже в бурьяне, в лопухах; чуть проковылял — и опять среди колосьев или в степи, где шумит и звенит, и столько разного народа жужжит, свиристит, кричит, ползает, прыгает, летает… Ты еще не умеешь спрашивать, а когда научишься, то уже отпадет нужда — не спрашивать же, зачем у тебя глаза, уши или руки? А все, что вокруг тебя, — это и есть ты. Ну а коль захочешь узнать: кто же ты сам?.. «Мам, как я стал?» — «Бог дал». — «Облака из дыма?» — «Бог дал». — Причем «бог дал» у ней звучало слитно, скороговоркой: «богдыл». Матери незачем было думать над моими вопросами, потому что ответ готов заранее — ответ, доставшийся ей с незапамятных времен, износился, истерся в ее сознании, и мне казалось, что не слово, а льдинка выскальзывала из ее губ: «богдыл».
Да и кто этот «богдыл», если про него пел Костя Миронычев: