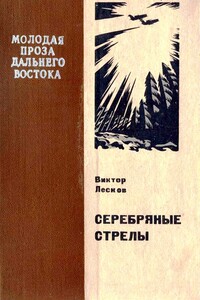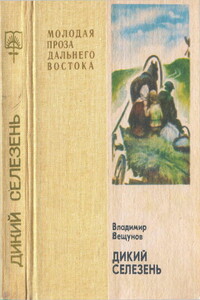— Чего они хлехочат?..
— Роса, — отвечал Раздолинский. — Барабанчики с дудочками у них отсырели.
Выкатывалась из трав луна, розовая, испещренная редкой метелкой донника. Далеко бледно плясало пламя костерка, и оттуда обрывками доносились смех и песни.
Деревня рядом, но звуки из нее слышались нечеткие: сплошное бормотанье животных и людей, и вдруг, будто над самым ухом:
— Марья-а, скоро там баня?..
Мне знобко и хорошо. А потом вдруг представлялось, что я вот-вот умру — умру просто так: был — и нету.
А может быть, я — это не я, а кто-то другой? А я еще не родился и меня никогда не будет? И мне хотелось закричать, поверить в свое существование.
— Дядя Ваня! — я хватал Раздолинского за руку. — Ты видишь меня?
— Тебя? Вижу.
— А если я умру? Скоро, скоро…
— Умрешь?! — удивлялся он. — Нет, малыш, твой год емким будет.
— Год?! — понимал я по-своему Раздолинского и холодел от ужаса. — Я не хочу год, а долго-долго!
— Да не пугайся ты, — успокаивал меня он. — Это я неправильно сказал. Проживешь сколько надо.
— А сколько надо?
— До старости.
Раздолинский клал мне на плечи руку, просил:
— Давай помолчим и — домой, а то как бы мне за тебя от твоих родителей не попало.
Туман-пластун выползал из-за рощ, и, тек лощинкой, но угорчик не осиливал, ложился у наших ног, как белая собака. Луна нагоняла холоду, белесила степь; а роща, напротив, днем такая заманчивая и уютная, сейчас жутко темнела, затаив в себе что-то страшное.
Все уже спало, только коростель-полуночник трещал одиноко и позабыто, да какая-то нестрогая мать-перепелка безвольно уговаривала детей: «Спать-спать-спать».
— Уснут, а их лиса съест, — сказал я.
— Жалко птах, — согласился Раздолинский, — но ведь лисе чего-то есть все равно надо.
«Нет, ему не жалко перепелок, — подумал я. — Было бы жалко, так бы не сказал».
Вон Кольке Кроликову какая на днях порка была! Полдеревни сбежалось, бабы насилу отняли Кольку от его матери — и ведь через его же паскудство ему досталось: к Поповым в огуречник залез, а там ни одного огурца еще, только завязь. Так Колька со зла давай по грядке кататься, что лошадь после работы. Выкатал ботву, на год Поповых без огурцов оставил.
— Дядя Ваня, почему он злой? — спросил я тогда у Раздолинского.
— Он не злой, — сказал Раздолинский, подумав. — Он обиженный. Его мать часто колотит.
— Так огурцы-то вымял…
— Что — огурцы?.. Бьют его — вот и огурцы.
— А ты заступись, — сообразил я. — Не жалко, что ли, когда бьют?
— Жалко? — спросил он вроде сам себя и, махнув рукой, пошел к дому, потом обернулся, добавил: — Ты бы со старшими… повежливей.
— Заступись за Кольку, — твердил я свое. — Знаешь, а не заступишься. — Но он не слушал, уходил.
— Иван Григорьевич! Сережа! — заметалась между нами Лида Румянцева, и ко мне: — Обидел Ивана Григорьевича. Эх ты, нашел кого жалеть… Он же тебя чуть не утопил. Мне вчера в молоко навозу накидал. Приготовила телятам, а он…
Она присела передо мной на корточки, щеки мои в прохладные ладони взяла, снизу заглядывала в глаза, а я не отворачивался, вплотную разглядывал ее лицо, словно цветную картинку в книжке. Лоб округлый, белый, как свеженаметенная горка, а щеки — все тот же снежок, только при морозном закате. Ресницы что камышинки, взмахивают, даже, кажется, ветерок от них исходит.
— Сереженька, басенький, попроси у Ивана Григорьевича прощения, ну, попроси!
— Ага, ладно, — согласился я.
Да разве я не выполню ее желание! Она любила Раздолинского, а я — ее. Любил — и крышка, и что хочешь со мной, то и делай.
И вот теперь, на угорчике, я все хотел пересилить себя, выполнить Лидину просьбу, да опять… перепелки: «Ему все равно, что Колька, что перепелки, что лиса с Варькой», — думал я.
— Лида сказала, чтоб я у тебя прощения попросил… ну, из-за Кольки.
— Ну и что же?..
— Неохота.
Раздолинский уставил на меня свои смоляные глаза и после долгого молчания как-то глухо, с придыхом сказал:
— Дай тебе бог, чтоб, когда вырастешь, остался таким же. Но я тебе не завидую, малыш. Не-ет, не завидую.
За руку поднял меня на ноги, и мы пошли домой.
— А еще, — сказал он мне на прощанье, — перепелки ведь тоже кузнечиков едят. Подумай.