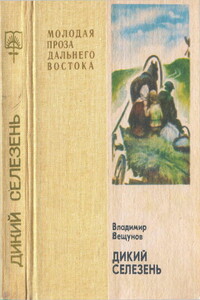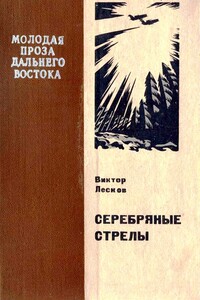Не знаю, что будет, не помню, что было.
Ты знаешь и помнишь — ответь…
Но если такая меня полюбила,
То надо и плакать и петь.
Алешкин голос зазвенел в морозном воздухе.
…Вон сколько прошло времени: больше полгода.
С того вечера ребята как бы признали Алешкино право на Асту. А Алешка с Астой целовались робко, встречались редко, и не потому, что не было возможности, а, наверное, по какому-то закону гордости, свойственному их возрасту.
А сейчас он подъезжал к дому с грустью.
Аста все равно уедет, пока он будет служить. И будут они с матерью жить в их любимом далеке, у моря под соснами, и навсегда забудут Козлиху, озеро, и степь, и его, Алешку.
Алешка зашел в сенцы, долго щекотал щенку Лебедю живот: не хотелось в избу, слушать материны причитания. Мать вязала варежку. Алешка сел на лавку, снял баранью шапку.
— Папа где?
— Пошел за вентерем, рыбу хочет ловить.
— Вот, мам, повестка.
Мать тихо заплакала, а потом вырвалось ее длинное «о-о-о», и Алешке стало страшно жалко ее, и он чуть не заревел сам.
— Не война ведь, мама, войны-то нет.
Вошел отец с громоздким вентерем и, ни о чем не спрашивая, все понял.
— Ты б нам с матерью, сынок, дровишек запас. Замерзнем мы в зиму.
— Ясно запасу. Стогов говорил, что дня на три отсрочку дадут.
* * *
Быстро пообедал и погнал в Заозерье, в березники.
В березниках было тихо, падал последний, чудом удержавшийся, лист. Вдалеке на белых ветках чернели косачи, и где-то гакали петухи-куропатки.
На юг, пискливо переговариваясь, летели казарки, а потом полоснул душу запоздалый клин журавлей. Вот улетают. И Алешке лететь, и слезы в глазах, и песня в сердце.
Летят перелетные птицы
Ушедшее лето искать…
С дровами приехал в сумерках, а на рассвете на попутной подводе уехал в город.
В городе, в большом клубе, целый день толпились новобранцы. Был строгий порядок, но спешка, и даже не отпустили пообедать. Алешку зачислили во флот. Он вышел на солнечную улицу, опьяненный счастьем: флотский! Хоть и шапка баранья пока и сапоги разбитые. Очень хотелось пить. У клуба женщина в халате торговала каким-то питьем. Стояла очередь допризывников. Алешка тоже стал. Кружки были большие. Алешка попросил полкружки. Кругом засмеялись, и Алешка поправился. Выпил полную кружку коричневого горьковатого напитка и на закате пошел в Козлиху с непривычным хмелем в теле от пива и с повесткой в кармане, в которой было написано, чтоб явился через двое суток.
Алешка торопился. Два дня с рассвета до ночи возил родителям дрова, сено. Мать успокоилась, хлопотала, готовила гулянку.
— Зачем, мама?
Мать почему-то шепотом говорила:
— Что мы, хуже людей?
Асту Алешка в воскресенье не видел, а теперь она ушла на неделю, и Алешка понял, что больше ее не увидит. Завтра уезжать. Вечером пришли гости: Коровин, Стогов с женой, соседи. Мать позвала девок. Зинка Коровина — невеста для всех деревенских женихов — села рядом с Алешкой. Ему было стыдно, и он краснел. А тут еще Стогов сказал речь о том, какой Алешка был хороший работник, что не хватает рабочих рук, и об обороне страны. Выпили. Мать тихо ходила от кути к столу, ставила закуски, а отец разрумянился от выпитого, еще чаще закашлялся, а потом заплакал. Его стали утешать. Мать подошла, села рядом.
— Чего ты, отец? Чай, не война.
Отец высморкался в платок.
— Да я что? Мне бы дожить да встретить. — Потом встал, заговорил громко: — Родину свою не забывай, Алексей: огороды и озеро, и землю всю. Не забывай, слышь, сын!
Зашумели одобрительно, выпили еще. Дед Коровин тянулся через стол к Алешке.
— Наказ дать хочу, — стучал себе по лбу крючковатым пальцем. — Башку береги, Лексей, тыковку. Оглядывайся и не лезь вперед других почем зря.
Алешка захмелел (считай, первый раз в жизни пил), не слушал, смеялся над чем-то с Зинкой, и дед махнул рукой, что означало, должно, — пропадет. Чистый женский голос вырвался из шума и повел звонко, ладно:
Вьется, вьется дальняя дороженька,
Стелется за дальний горизонт…
И дружно подхватили, да так, что мороз по коже:
А по этой дальней по дороженьке
Вслед за милым еду я на фронт.
Зинка обняла Алешку. Тот осмелел и тоже приобнял ее. Он совсем охмелел, стал хвастаться: