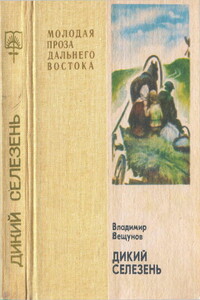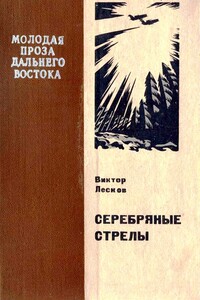Человек шел не по дороге, а напрямик через лощину, где темно зеленела омытая росой трава. Шел он тихонько, будто спал на ходу или выискивал что под ногами, да что выищешь: трава-то выше пояса. Человек, словно воду, плавно отгребал от себя высокие цветы, с них, оранжево светясь, сыпалась роса, и он вроде просыпался, вскидывая голову, черные волосы взмахивались крылышками и обвисали.
— Он, — сказал я.
— Сами видим, — не слепые, — прогудел за спиной дядя Максим и зачем-то подтвердил: — Идет. — Звякнул уздечкой по сапогу и еще протянул: — Иде-ет.
Я оглянулся. Люди вылазили из шалашей, вычищали волосы от сенной трухи, терли щеки, испещренные продавами от сена, покряхтывали, выгоняя из тела остатки сна, и морщились от солнца, которое растрясло себя кругом — глянуть некуда.
— Кто это шагает? — спросил кто-то сонным голосом, но ему не ответили, ждали.
— Ах, язви, суп убег! — Татьяна захлопотала у котла, Лида кинулась к бочке умываться, и все ожили, зашевелились.
— Дождалась, значит… Матрена. Да-а… — сказал Митяй, пробивая кашлем табачную надсаду. — Повезло.
— Что это он по росе хлюстается?
— Тык у него все на вынтар[4], не по-нашему.
Между тем Раздолинский вышел на кошенину.
— Серьг, — грубо толкала меня Варька в шею, — беги встрень, дурень такой.
Меня аж в жар кинуло от ее насилия. Увернулся, посмотрел на нее, наверное, не так, как ей надо было.
— Э-эх, ерш! — И забыла, что я есть, впилась глазами в идущего.
От одежды Раздолинского шел пар. Ступал он тяжело, будто не из Доволенки пришел, а из своего Ленинграда.
— Мы глядим, ты не ты? — Дядя Максим откинул узду и сам же ответил: — Однако ты. Серега вон первый усмотрел.
Раздолинский отер рукавом испарину с лица — кожу да кости — повел большими черными без зрачков глазами, улыбнулся.
— Вот, пришел. Здравствуйте.
И окружили сразу Ивана, зашумели. Смех и слезы. Да слез-то больше было. Ох, радость! Оттуда же ты, из чужих краев пришла горючих, о каких не думалось бы никогда, не гадалось, будь они неладны, края те. А теперь снятся чужие-расчужие. Глазком бы взглянуть на ту землю, в какой зарыты кровинки родные. Скоро они туда успели, а как нам туда дойти, доехать, найти хоть чего?
Раздолинского усадили на лагушку.
— Ну вот…
— Ждали…
— А как же.
И говорить больше нечего. Много надо русскому человеку времени, чтоб разжать спазму души, разговориться, радостью ли обменяться, горем ли.
А Лида — Лида и есть. Никого не постеснялась, не побоялась, хоть и Костя вот он стоит, вытирает пуком травы мазутные руки, смотрит, как жена с бывшим милым встречается, держит Раздолинского за руку, в глаза смотрит. А может, и не с бывшим, может, и теперь он мил ей, как прежде? Вон как она вся пылает-горит. На слезы бы не сорвалась.
— Долго ты, Ваня, томил нас. Вот мы тут… — и запнулась, повела рукой, показывая людей ли, степь ли.
Раздолинский гонял кадык по худой шее, глаза, что у совы, округлились, пытался все подняться с лагушки.
— Да сиди, — прижала его за плечо Лида. — Живой ведь еле. — И озиралась, искала меня. — Иди, Сережа, поздоровайся с другом, — и к Раздолинскому: — Не забыл, поди, дружка своего?
Но меня опередил Костя:
— Здравствуй, солдат. Целый?
— Целый.
— Ну и я вроде.
Раздолинский скользнул глазами по Костиному лицу, опустил в землю.
Дядя Максим заторопил завтракать. Дождь, может, прольет, а нет, так вечером поговорим, а теперь некогда — день год кормит. Стали рассаживаться на траву возле очага, спешить — солнышко-то уж под зад подпирает.
Татьяна подала Раздолинскому миску.
— Угощать больше нечем, Иван Григорьевич. Чем богаты… поешь.
— Был поди Ванюша, в Пруссии? — доставая кисет, спросил Семен Кроликов. — Подергал небось пруссаков-тараканов за усы?
— Пришлось.
— А мы с Митяем не доскакали туда — по ноге отчекрыжили. А Ваську мово… вот… — щурился, скрывая глаза, то ли от дыма, то ли от горя.
То один заговорит с Раздолинским, то другой, а я не подходил к нему, не мешал взрослым, да и он меня вроде не видел. Ест — не ест: хлебнет ложку и как-то озирается, а то смотрит в степь, думает. А чего сейчас думать, когда радоваться надо встрече. И не скажу, что мне было не ревностно и не обидно оттого, что он меня не замечает.