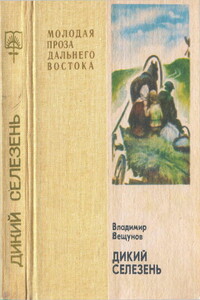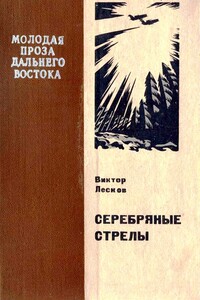— Теть Варь, ты постелись тут без меня.
— Кудай-то ты, а? — Варька аж на месте ногами засеменила.
— Да к Косте я, — спокойно, с ленцой ответила Лида. — Куда ж мне еще?
— А…
Варька так и застыла с открытым ртом, пораженная Лидиной нескрытностью.
— Ворону проглотишь, тетя Варя.
— Тьфу! — опомнилась Варька. — Ни стыда, ни совести.
— Да где нам иметь такое. — И Лида тихо рассмеялась.
Подошла ко мне. Я сидел на прицепе вагончика и глядел в ту сторону, куда ушел Костя. И ничего уже не было видно, только темнела купава берез, и там, наверное, стоит Костя, курит и думает бог знает о чем и не ожидает никакой радости, а она, радость, сейчас к нему нагрянет. А может быть, не радость, и с этой минуты начнутся главные его страдания? И четко этак встали в памяти проводы Раздолинского, ливень и он с Лидой, слитые ливнем воедино.
— Думаешь все?
— Ага.
И ушла, и затихли ее шаги.
День назавтра замешался на сивенькой жидкой мути, как кисель на вымочке из овсяной шелухи. И муть эта потом держалась весь день, потому что ветер до того обленился, что даже осинового листа не трогал. Солнце светило тупо, как через высушенный бычий пузырь.
Трактор чихал, кашлял, как простуженная кляча, исходя силой, еле двигался, то вдруг срывался, будто подстегнутый, пробегал десяток метров и опять заходился в одышке и кашле.
Костя по обыкновению не ругался, часто передергивал дроссель подсоса да горланил песни. Голос его клочьями прорывался через гул трактора, поэтому казалось, что он не пел, как-то со стоном вскрикивал. Меня раздражало Костино настроение, потому что сеялка вконец вымотала мне нервы: опять отвалилось два диска, я их кое-как закрепил и ждал, когда они отвалятся снова; втулка колеса разносилась, смазка в ней не держалась, и потому колесо шло с наклоном и вывертом, кричало поросенком день напролет. Я, озлясь, кидал в Костю комок земли, он испуганно оглядывался, а потом смеялся и грозил мне кулаком.
Мы сделали круг, и нас встретила Лида с двумя пучками в руках мелкого дикого лука. Костя слез с трактора, встал перед Лидой. У обоих рты хоть завязки пришивай — совсем одурели со вчерашнего вечера. Потом она кормила его луком, и он, растопырив грязные руки, захлебывался от удовольствия.
— Ты, Сережа, что такой пасмурный?
— Ага, комьями в меня кидается, — подтвердил Костя ее вопрос. — Петь не велит… Мужик серьезный.
Меня и вправду тоска взяла и чувствовал — не только потому, что замучила меня сеялка. Может, потому еще, что день какой-то потайной, будто скрывает что-то такое, которое привело бы меня к ясности в самом себе. «Не от Костиной же радости мне плохо?» — подумал я, и мне стало стыдно от этой догадки.
— Поехали, что ли… Прицепились, — сказал я.
— Видала! — Костя засмеялся и пошел заводить трактор.
Лида подошла ко мне, зачем-то сняла с меня шапку, стала разбирать мои свалявшиеся, нестриженые космы.
— Ничего, Сережа, — говорила она тихо, — твое еще будет. Не такое, лучше… — лила она на меня слова, будто кипяток, — так мне стыдно было, что она распознала мои, даже для меня самого неясные, чувства.
— Да ладно. Ехать надо…
Она села с Костей на трактор. Наклонилась к нему и что-то кричала, а он — ей, и оглядывались на меня: слышу их или нет? Я старался не глядеть на них, усердно возился с сеялкой.
Когда возвращались — увидели дядю Максима. Он разгружал с повозки бороны — вытряс, значит. Не дал Косте развернуть трактор, замахал руками. Костя резко сбросил газ, и трактор заглох.
— Чего ты? — сердито спросил он.
— Чего? А вы не знаете?! — томил нам души дядя Максим.
Борода его раскудлатилась, кусты бровей вскинулись, будто кто потрепал его в драке.
— Война замирилась, — выложил он тихо.
Костя вроде и не слыхал ничего, устало сел на мостик сеялки и вдруг подскочил, схватил отца за плечи. Я это только и видел, потому что Лида сгребла меня.
— Сережа! Сереженька-а!
И плакала, и смеялась, и щеки мои тоже были мокрые то ли от своих, то ли от Лидиных слез.
— Вот день! Это день! Ты уж запомни его, — просила меня Лида.
Дядя Максим сел на мостик сеялки, трясущимися руками, портя бумагу и рассыпая табак, стал делать цигарку.