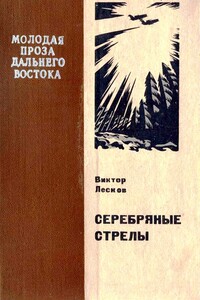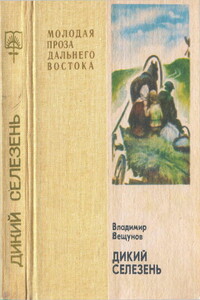— Подтяни гайку-то на косогоне, — поучал я. — Щечки оторвет — и отцепляй тебя потом. А ты чего втулку не смазываешь? Сгорит втулка-то.
Косари смеялись, а Васька Занозов вымазал мне лицо солидолом.
— Что за косарь, если рожа не в смазке. — И заржал, как выездной жеребец.
Костя прикрикнул на косарей и позвал меня за трактор. Он вынул из кармана светлое колесико-подшипник, крутанул на пальце.
— Возьми, — сунул он мне колесико и, оглянувшись, глухо забасил:
— Скажи Лиде, пусть придет за Попову баню. Как стемнеет… Скажешь?
— Зачем? — удивился я.
— Ну это… дрова пилить.
Его золотисто-карие глаза усмехались, русый чуб клубился под козырьком, губы, розовые, влажные, подрагивали. Я вспомнил, как он грозил в частушке Раздолинскому.
— Нету там дров, — пятился я, готовясь удрать.
— Ну-ка, — Костя вырвал меня подшипник. — Смотри, вякнешь кому — ноги вы, зерну, спички вставлю.
…Вечером под навесом он был злой.
— Что ты, отец, учишь? Не первый год коней пасем, знаем!..
— Знаешь, а в прошлом годе с бугров начал брить, а там трава — перепелке под крыло.
Диде Максиму против говорить, что солому в огонь кидать, но тут сдержался — тракторист перед ним.
— Ты, Константин, не пузырись, — внушал Митяй. — Отец правду говорит. Конь железный тебе даден не для фулюганства. В прошлом годе…
— Тьфу! — сорвался Костя. — Учат, учат… Вся деревня — учителя да это… писатели.
Слово «писатели» он выговорил со злом, презрительно.
Под навесом примолкли. Я хотел крикнуть насчет дров, какие он хотел пилить за баней, но опередил Николай Иваныч:
— Нехорошо так, Константин Максимыч, негоже. Иван Григорьевич не колосок и не стебель даже — росток хрупкий, а мы его — сапогом. Верил бы в бога — сказал: покарает нас бог за небрежение наше.
— Во, во, помолитесь, — Костя показал на тусклый огонек в окне Раздолинских. — Вон иконка ваша за стеклышком… На покос бы его, вашего боженьку, чтоб ему оводы спину надрали.
— Глупый, глупый…
— А пошли вы…
Костя выметнулся из-под навеса, заскрипел сапогами. Вскоре где-то у рощи забренькал балалайкой.
Мне не надо пуд гороху —
Однуё горошину.
Мне не надо много девок —
Однуё хорошую.
— Лиду завлекает…
— Ну и злится, кобель, на Ивана Григорьевича.
— Огонь парень, — вздохнула какая-то молодайка.
— Да уж на тропке не попадайся, — хохотнула другая.
— Слыхал я, — начал Семен Кроликов, — будто писателям статуй ставят. Ну-к как у нас Григорьичу отгрохают.
— Из чего? У нас ведь чернозем — каменьев нету. Из глины не поставишь: дож — и поплыл, — сказал Митяй Занозов — кузнец и печник.
— Глупости вы мелете, — заметил Николай Иваныч тихо, но горячо. — Вы его от зла поберегите, от обид, а уж наше ли дело памятники ставить. А то, пока жив, поедом едят, съедят — облизываются да плачут: «Ах, съели, ах, не уберегли!»
— Да господь с тобой, Николай Иваныч, — заговорили люди обиженно. — Иван с нами, что деготь с водой: смешиваться не хочет. Ну и пусть живет как знает. Не трогаем мы его. Костя — так он из-за Лиды…
— Вот, вот, читал я, — хвалился Семен своей начитанностью. — Из-за баб-то их и гробят. Баба-то вроде заделье, чтоб придраться — да по темю.
— Зря Лидка по Ивану сохнет. Ой, зря, — сочувствовала Лиде Татьяна Занозова. — Выходила бы за Костю. Куда б с добром! А то вон сидит на лавочке — чего высидит? — И, вздохнув, добавила: — Пасмурный он, Григорьич-то, нездешний, а Лида, как росинка на листке, вся светится.
Что правда, то правда. Красивее Лиды нет и никогда на земле не будет. Не зря же я ее любил. Засыпая, я мечтал проснуться взрослым, а то цеплялся за коновязь и, зажмурив глаза, висел до тех пор, что, казалось, руки оторвутся, думал — так скорее вырасту. «Не любят меня года», — огорчался я.
Уже многие, что постарше, поуходили домой; уже реже и тише дунчели под навесом голоса, а я все сидел на носилках для зерна, подобрав босые ноги под телогрейку. Далеко-далеко за степью и краем рощи попыхивала молния, едва высвечивая страшные в своей темноте березы. Жутью и тревогой доносило оттуда, и испуг брал за все живое, что было там, и от этого была даже зависть к самому себе: вот сижу, а рядом люди, сейчас пойду домой, закроюсь в чулане, под шубой в постели мне будет тепло и нестрашно, только мать маленько поругает — она уже два раза кликала меня. И все равно мне было грустно и тревожно, и думалось, что эта ночь будет долгой-долгой, как мать говорила про зимнюю ночь: «ночь — год», а я удивлялся, что я проспал год.