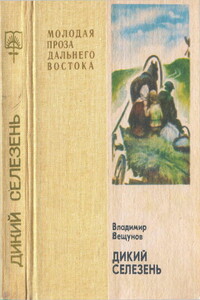Девушка слушала заинтересованно.
Серега сел за стол и, старательно выводя буквы, оформил два бланка: на одном матери — пятнадцать рублей, на другом написал адрес назначения, а вместо обратного — только город, профессию и фамилию. Отсчитал восемнадцать рублей с мелочью за переводы, получил квитанции. Уходить медлил.
— Ты это… зябнуть-то кончай. Тебе говорю. Зябликам и самим плохо, и людям от них пользы мало. Так что закаляйся. Слышишь? И — до свиданьица.
— Спасибо вам! — крикнула вслед ему девушка.
На улице уже светились фонари, и Серега заспешил и магазин, чтобы купить семье гостинцев:
«Так вроде ладно все, — итожил он на ходу. — Витька только… Да ничего, парень он головастый, вместе с ним и выправимся. За квартиру вот не заплатил».
В магазине Серега купил банку компота, кулек карамели, а для себя десять пачек папирос «Север» и бутылку плодово-ягодного вина местного производства. Аккуратно рассовал покупки по карманам и зашагал домой.
«За квартиру не заплатил, — подосадовал опять. — Завтра придется».
Пенсионер Кузьма Солдаткин сидел во дворе на лавочке, скучал. Делать нечего. Телевизор включать рано — еще часа два ждать. Газету зачитал до дыр, а книги он сроду в руки не брал. Поговорить не с кем — одни пацаны вокруг.
Лицо у Кузьмы гладкое, глаза голубые, надо лбом — седой хохолок. В молодости Кузьма был красив.
Из-за угла вывернулся Трофим Сучков. Тоже пенсионер. Весь он какой-то корявый, длинный, шатучий. Сучков под хмельком, карман оттянут бутылкой. Штаны и рубаха в гудроне, руки — тоже. Идет он с работы.
— Здраст, Кузьма Егор, — Сучков, когда выпивший, скрадывал слова. Кивнул на отложенную газету. — Все политикой… Все, значит, это?.. Хорошо в тенечке-то…
Душевный человек Сучков, а сегодня и вовсе у него хорошее настроение, и он каждому готов сказать что-нибудь хорошее, даже Солдаткину.
— К лицу тебе, Егорыч, политика, в аккурат! Вот ты прочел и все разложил. С политическим выводом: это — так, другое — эдак. Одному — дано, другому — нет… Вот я, к примеру…
Солдаткину приятно слушать такое, но он не изменил скучающего выражения лица, смотрел на липу, в ветвях которой копошились воробьи.
— Надрызгался, — говорит Солдаткин и позевывает. — Чего вас к ней тянет, как… свиней в лужу?
Сучкова его слова обижают, но настроение… Обижаться, право, не хочется.
— Зря ты, Егорыч, зря. Думаешь, без причины, да? У меня ж сегодня праздник двойной! Именинник я сегодня, и улицу мы закончили асфальтировать. Ну и ребята честь оказали. А ведь узнали, черти! — голос Сучкова дрогнул. Он черным пальцем потер глаз и тихо, чуть не сорвавшись от избытка чувств на слезы, закончил: — Ну ребята! Ну до чего! Мы ведь в шахте вместе и сейчас…
— «Ребята». — передразнил его Солдаткин. — Уж песок сыплется, а все — «ребята».
Маленькое лицо Сучкова морщится. Тут уж он обижается.
— А сам-то ты стакан мимо рта проносил? То-то. Сулить только! А песок… Уж пора сыпаться: по тридцать лет в шахте отмолотили. Да каких! Это теперь: два выходных да машины… А мы, бывало, лопатишь, лопатишь! Да в газу — тогда шибко-то на это не глядели. Через смену… С чего ж нам крепкими-то быть?
— Это правда: не с чего; дураки потому что. Я разве не столько, как вы, шахте отдал? А спроси: болит у меня хоть какая кишка или кость. Ну? Вот то-то и оно.
— Хо! Сравнил гуся с гагарой. У тебя, кроме глотки-то, надо думать, ничего не болело. Хотя, посмотришь, настоящие-то начальники: один головой занеможет, другой — сердцем. А ты как цемент: чем больше живешь, тем крепче делаешься.
Сучков усмехнулся, покачал головой на топкой, из одних жил шее, продолжил весело:
— Уж глоткой-то брал! Бывало, с одного конца лавы заходишь — на другом уши ломит. И слова хлесткие находил. Глотка тебе грамоту заменяла. И еще это… бессовестным ты был.
Тут уж рассмеялся Солдаткин. Басовито, с хрипом, вроде растревоженный кабан захрюкал.
— Бессовестный? А от твоих слов я вверх ногами встал? Или в бок мне закололо?
— Тебя проколешь, жди.
— Ладно. В то время и ты, если бы ты был с головой, мог такую же должность иметь. Грамота у нас одинаковая: искуренный букварь.