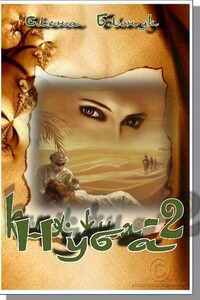В полосатой от солнца спальне встала тишина, никто не шевелился, будто боясь, что она лопнет от самого маленького движения. Свистели за окнами стрижи, с площади доносился гул голосов, прошитый вскриками торговцев и стуком молотков медников. Тихо и хрипло дышала Ахатта. И сглотнув, так что звук этот — тихий, услышался всей замершей комнатой, прошептала:
— Какой я воин, Лиса. Я — ведьма без сердца, я жаба, воняющая болотом. Я.
— Замолчи. Или я выкину тебя из своей постели. В степь.
Больная умехнулась, растягивая пересохшие губы.
— Сначала дай мне молока, сестра. Горло сушит. Я расскажу. Все, что помню.
Что случается, когда вчерашняя девчонка, худая и верткая, как незимовавший уж, вдруг, обернувшись, глянет и губы ее разойдутся в легкой улыбке, будто это первый красный тюльпан среди короткой еще травы раскрывает длинные лепестки, так медленно, что надо лежать рядом, сбросив шапку, смотреть, не отводя глаз, чтоб через время удивиться, — вот он, показал себя.
Исма лежал так не раз. Полстепи проскакав на карем коне, который по утрам горел, будто он и есть солнце. И звали его поэтому — Солнце. Бросив поводья, спрыгивал Ловкий на землю, что под травой гудела, когда ударял ее ногами. И сразу падал ничком, вытягивая перед собой руки, смягчая удар. Чтоб лицо было прямо перед цветком, на расстоянии короткого вдоха. Теперь надо смотреть, не моргая, чтобы не пропустить. Раздувая ноздри и медленно, без рывка втягивая пьяный весенний воздух, в который постепенно, по мере того, как шире становится трещина меж лепестков, вплетается тонкая струйка пыльного и сладкого запаха. Глаза смотрели, как раскрывается цветок, нос чуял, и только уши слышали большой шум — идущий поверх лощин весенний ветер трепал траву на макушках курганов.
Учителя говорили мальчикам:
— Не только скакать, не только биться. Не только сильные руки и крепкие ноги. Еще — глаз, такой внимательный, что не раскроется без него цветок и не оторвется лист от осенней ветки. Смотреть и уметь видеть, как замерзает поутру вода в бочажине, превращаясь в тонкий невидимый ледок. Как поворачивает на лету голову ястребок. Как бабочка вытягивает кольцо хоботка, впиваясь в мягкую серединку степных заричек и втягивает снова, сворачивая в кольцо.
Не для забавы смотрел Исма на весенние тюльпаны. Но когда стала улыбаться ему Ахатта, сразу подумал, она как тот цветок, вокруг которого еще злые по-зимнему ветры, нахватались снега и несут его, невидимый в холодных ветреных руках. И потом подумал еще, вспоминая все свои весны, что с летним теплом полнится цветом и яркостью, раскрывается целиком тюльпан, и уже ничего узкого нет в нем, одна раскрытая сладость.
С ней будет так. Потому что в степь пришла весна Ахатты. Старухи, глядя, как скачет девчонка, нарочно скидывая шапку и отдавая черные волосы ветру в руки, говорили, не каждый год приходит весна с именем одной, потому что такие редки. И не принесут счастья ни племени, ни тому, кто захочет сорвать. Ни даже тому, кому сама она разрешит сорвать себя, сминая упругий стебель, подставляя под жесткие руки шелк лепестков.
Но ничего не изменить: что выросло в степи, то имеет право прожить свою жизнь, какой бы длины она ни была. Потому, качая головами, лишь смотрели, как привел Исма Ахатту к вождю, сказал свою просьбу, держа ее руку в своей. И отдал родителям двух коней и десять коров, шелковые платки сестрам, и два средних, для мальчиков, лука — обоим братьям Ахатты. Торза кивнул. Протягивая над головами ладони, сказал вечные слова, что говорятся всегда. И провожая взглядом двоих, сперва медленно удалявшихся на своих лошадях, а потом пустившихся вскачь, подумал о своей дочери. Дочери-воине, что послана ждать.
А Исма с Ахаттой ехали туда, где были не раз и не два, но никогда открыто, никогда с благословения племени. Седьмица дней в тихой низине, укрытой серыми валунами, среди которых росли кривые веселые сливы и яблоньки, а неподалеку бил родник. Семь ночей в маленькой палатке. И, завидя высокий шест с треплющимся на ветру лисьим хвостом, все объезжали низину, утишая конский галоп, чтобы земля не гудела.