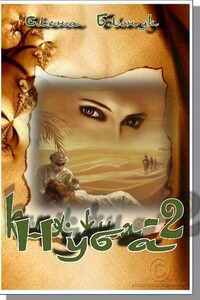Стукнули барабаны, звук застыл, как стынут по осени рябым ледком лужи, запоминая порыв ветра. Шелестнул бубен, укладывая шелест сплошным полотном. Раздался и не смолк, растягиваясь в бесконечность, хриплый мертвый вой отрезанных звериных голов. И Торза, застряв в мгновении, как муха в отравленном меду, смотрел и смотрел в серую глубину знака, уходя в нее глазами, а следом уже тянулось его сердце, таяло киселем и всасывалось, покидая мощное тело.
— Вождь… — крик куснул в щеку, тонкий и маленький. Торза досадливо отмахнулся, как от вечернего комара. Но крик не умолк, а стал чуть громче:
— Вождь Торза! Твое племя!
Вися перед чужой пустотой, манящей нездешней сладостью, Торза скривился, наполняясь злобой, и нашарив у пояса нож, выдернул его из ножен. Не отводя глаз, резко повел левой рукой, поймал край замшевой рубахи, притянул к себе старого урода, жабу, смеющую квакать о том, что важнее для великого Торзы, непобедимого, лучшего…
Серая пустота кивнула, ободряя и подсказывая. Свернулась мягкими завитками, рисуя лицо Энии, ее лоб, ее гордый нос и раскрытые губы, ведь он брал ее, брал амазонку, лежала под ним, он — победитель!
— Твои дети, вождь!
Торза коснулся ножом старой шеи, удерживая шамана за оттопыренный ворот. Раскрыл рот, шипя, повторяя слова за своей Энией, что лежала среди тяжелых белых цветов, истекающих соком любви:
— С-слишком зажился, старая плесень…
Одновременно с движением ножа, с неумолимой плавностью входящего в сухую старческую кожу, в уши его грянуло имя:
— Хаидэ!
Тело Торзы судорожно скрутилось, задергавшись, и он со стуком упал на вытоптанную землю рядом с потухшим костром. Ударился головой и пополз прочь, мыча, хватаясь за стебли вылощенной травы окровавленной рукой. Но тут же остановился и завертелся на месте, как вертится волк, сшибленный ударом конского копыта. Вскидывался и падал, ничего не видя, оглохнув от ярости и непонимания. И, падая, бился и бился головой о землю, чтоб не пустить в голову мысль о том, как плавно вошло лезвие в старую шею.
* * *
Перед утром степь ненадолго стихает. В ночи, когда спят те, кто принадлежны людям, подстраиваясь под них, степь живет: шевелится, дышит, разевая тысячи глоток, видя все в темноте, скрывающей ночную жизнь от человеческих глаз. Кругом идет охота — от большой, в которой, вытянув над травой хвосты, стелятся волки, на бегу обходя испуганного бычка или подкидывая ударом лапы зайца; до малой, швыряющей в усатый рот козодоя из теплого воздуха бабочек и мошек.
Но перед утром стоит тишина. Еще темно, глухо и не побледнели звезды, еще катается среди черных облаков круглая луна, и вдруг посреди травы удивленно цвикает первая птица, будто спрашивает что-то у мира. Ей отвечает другая. А через один вдох тишина распадается на множество птичьих криков. И младшие ши небесного шамана знают — если уж цвикнула первая птица, то кончилась ночь и никогда не останется ее вопрос без ответа.
Об этом привычно посмеиваясь, рассуждал старый Патахха, говоря о месте человека в огромном мире. Пусть все люди умрут, птицы все равно заведут свои песни… Все люди. Все, какие есть.
Но сейчас, стоя над изломанными телами, брошенными на теплую землю, младшие не верили, что мир продолжит жить. Как ни в чем ни бывало задаст свой вопрос глупая птица, не подозревая, что мира больше нет, потому что, согнувшись почти пополам, у мальчишеских ног лежит тело старика, который, оказывается, маленький и совсем худой. Да он ли это?
Безымянный ши нагнулся, напрягая глаза, вдохнул запах крови, протянув руку, потрогал черную лужицу под щекой. И выпрямляясь, огляделся отчаянно. Они все молчали. Потому что рядом с Патаххой лежал, изредка вздрагивая, вождь, а ши нельзя говорить своих слов, лишь слова старого шамана. Такова была клятва.
Трое, знающие каждый жест, каждое шевеление пальцев и каждую улыбку старого лица, споро исполняющие все поручения, и уже ведающие о том, как идти вниз и куда воткнуть нож в горле жертвенного барана, как простучать в барабаны, чтоб мир раскрылся перед глазами, — не знали, как им быть сейчас. Мысли бились вразнобой, метались, как мечется в клетке пойманная птица, ранясь и ломая тонкие лапки.