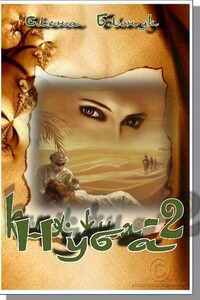— Ой, — сказала добрая, всех жалеющая Анатея, — убежала…
Гайя с усмешкой посмотрела на смутно белеющий угол дома, на нем нарисовалась кривая тень с вытянутым носом. Мератос, свернув, не ушла далеко, уселась под факелом.
— Первое утро новой жизни настало для молодой жены, а она уж велела остричь Милицу, обрезать ее прекрасные волосы…
Тень качнулась и вытянулась, чтоб расслышать тихие слова. Воздух стоял недвижно, поддерживаемый немолчным ририканьем сверчков, таким однообразным, будто и не было его.
— Милица была главная в доме. Лучше всех танцевала, пела, как пели сирены, и гости хозяина любили ее. А мы — нет. Очень горда была и без доброты. Утром прислали ее и меня к молодой жене, чтоб уложить ей волосы и умастить тело розовым маслом. Навести глаза и брови. Показать, как надевать украшения. Милица идти не хотела. Но она рабыня. А когда молодая хозяйка, не сумев открыть, уронила на пол драгоценный флакон и потекла из него золотая амбра, Милица сказала по-гречески, чтоб та не поняла.
— А что сказала, Гайя? — Анатея замерла, наклонившись вперед.
— Глупость сказала, злую глупость. Забыла, что она раба, а хозяйка — жена господина.
— И хозяйка услышала, да? Она уже знала язык и поняла?
— Не надо ей было знать языка. Она подобралась телом, ровно лиса на охоте, ровно хищная птица над воробьем. Только глаза блеснули лезвием топора. Она просто увидела лицо Милицы, когда та говорила. И тут же велела — голову брить и вышвырнуть из дома, навсегда.
— И хозяин послушался?
— Она пришла в его дом стать женой. И все мы с того дня стали и ее рабами тоже. Узнав, что приказала княгиня, он рассмеялся. Позвал к себе Милицу и велел ей скинуть покрывало. Гости лежали с вином и смотрели, как блестит ее большая голова, глупая голова. И тоже смеялись. Хозяин услал Милицу в рыбацкую деревню, в дальнюю, где квасят хамсу и делают из нее гирум. Вонь от него такая сильная, что когда посланные из той деревни приходят в полис, все зажимают носы. Так она и осталась там, чистить рыбу и заполнять ею деревянные бочки на жаре, среди мух. А тоже была вся в браслетах и кольцах, что дарили ей знатные.
Гайя посмотрела на замершую тень на белой стене.
— Ты поняла, глупая? Иди к нам.
Но тень, качнувшись, исчезла.
Мератос, отползя за угол подальше, встала, поправляя платье. Повертела на руке подаренный браслет, и, шепча злые слова, тихо ушла в большую женскую комнату, где у стены каменные загородки отделяли ее каморку. Кинувшись на постеленные овечьи шкуры, заплакала, вытирая злые слезы. И шмыгнув, прошептала:
— Ну и что. Подумаешь. Да я. Я вот…
Злость бродила в ней, беспомощно тыкаясь в углы, искала выхода и не находила его.
— Я все равно, что-нибудь…, - пообещала себе девочка, сворачиваясь клубком и засыпая.
Сон пришел, горячий и влажный: Мератос сидела на троне, в одеждах из золота, в зале, уставленном корзинами с изюмом и орехами. А княгиня, с морщинистым лицом и скрюченными руками ползала у ног, умоляя о милостях. Но Мератос ела изюм и смеялась. И Теренций, окруженный красивыми сильными мужчинами, которых привел ей, царице, кивал и тоже смеялся над своей старой ненужной женой.
Под смоковницей стояла тишина. Мужчины и женщины, притихнув, пытались услышать, что делается наверху, в женских покоях княгини. Говорить о ней после рассказа Гайи никто не решался. А та, снова подняв комок шерсти, тихонько загудела свою песню, трепля жаркие волокна.
А в верхней спальне, освещенной тремя светильниками, слепленными в виде нагих нимф, Теренций сидел в кресле, вытянув ноги. Смотрел на заснувшую Хаидэ, лежащую на узорном покрывале среди раскиданных подушек. Вспоминал, как спала она в первую их ночь, и рядом был Флавий, пьяненький и болтающий чепуху. Да и сам Теренций говорил всякое. И делал.
«Что сидишь? Иди к ней, возьми. Она честна и выполнит обещание».
Честна. Иначе не маялась бы тут, в золотой клетке, не ткала бы целыми днями покрывала в мастерской, не возилась бы в цветнике. Не сидела бы на месте хозяйки дома, разряженная в тяжелые одежды, принимая гостей. Его гостей. Она обещала отцу. И все обещания выполняет, как подобает настоящему Зубу Дракона.