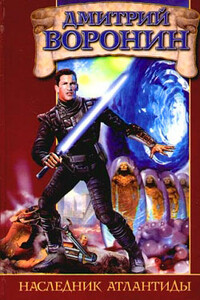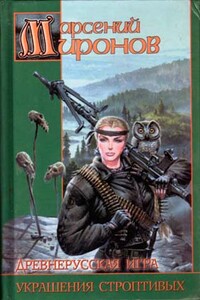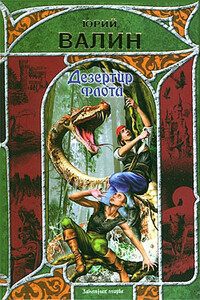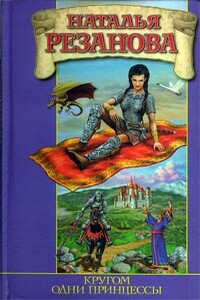– Получен ответ от всех, кроме Сантуды.
Карен вспомнила свои вечерние беседы с Боной и Магдой.
– Сантуда. Так звали короля, покорившего Агелат.
Это были первые слова, которые она произнесла, и не обращенные ни к кому. Отозвался Катерн.
– Он утверждает, что это его предок. Во всяком случае, нос он дерет кверху, будто сам – король.
– Сдается мне, что сейчас этот нос повернут в сторону побережья, – заметил Флоллон.
– Узнаем, – сухо сказал Торгерн. – Когда они будут готовы?
– Большинство говорит, что смогут подойти к сентябрю.
– Дальше медлить нельзя. В начале сентября мы должны выступить.
Так. Выступить. Слово сказано. Он все-таки замыслил войну. Карен взглянула на Торгерна и тут же отвела взгляд. Успеется. Нельзя стрелять по двум целям сразу. Сначала нужно довести до конца дело с Линеттой. Кроме того, у нее была странная, но твердая уверенность в том, что этой войны не будет. А она привыкла доверять своим предчувствиям.
Как бы отозвавшись на ее мысли, Катерн спросил, обращаясь к князю:
– Не поделишься ли, что тебе сказал Сигферт? Беседовать со мной он счел ниже своего достоинства.
– Ничего нового. В общем, подтвердил обещания герцога.
– И то хотя бы. Негоже, если во время похода они ударят нам в спину.
В спину. Значит, Сламбед. Все-таки Сламбед.
– Я тебе говорил, Ситгферт сам по себе значения не имеет. Пустое место.
– Он много времени проводит с капелланом.
– Вот именно.
– А если все они вновь зашевелятся? – спросил Флоллон. – Малхеймские горожане, Вильман, да еще Сантуда впридачу – не много ли?
– Много чести для Сантуды, – отозвался Оффа, но видно было, что он не слишком уверен в своих словах.
Карен проговорила, по-прежнему в пространство:
– Сантуда – старый Сантуда – уничтожил Агелат, но и от королевства Сантуды остался прах. Так было, так будет. Тригондум вряд ли поднимется из руин, но пройдет немного времени, и люди забудут место, где стоял Малхейм.
– Это что, понимать как пророчество? – резко спросил Флоллон.
– Понимай как хочешь, – безразлично ответила она.
– С чего это ты вдруг вспомнила про Тригондум? – поинтересовался Катерн, но Торгерн не дал ему продолжить.
– Я сказал – мне нет дела до Малхейма! Захочу – срою его и землю солью велю засыпать. Захочу – и будет новый город.
В голосе его Карен посляшались знакомые ноты угрозы. Он считает себя свободным. Это хорошо, это очень хорошо сейчас, что он так про себя считает.
– О чем разговор? – проворчал Флоллон.
– Ни о чем, советники мои. Не слышу от вас сегодня ничего дельного. Короче, – вы все слышали, что нам всем предстоит. Кеола, сегодня ты вернешься в Малхейм. Когда понадобишься – пошлю за тобой. Остальные будут нужны здесь. Флоллон, посмотришь новобранцев, чему их там Горм наобучал. Катерн – лошадей. Тебе, Оффа, поручаются оружейники. Все. Разговорами от меня не отделаетесь.
Они встали. Кроме Торгерна. И Карен. И тогда все взгляды обратились на нее.
– Хоть ты и против разговоров, – твердо сказала она, – однако я должна поговорить с тобой о деле, которое касается тебя самого.
– Хорошо.
Остальные ушли, и, хотя она сидела спиной к двери, но чувствовала, что они шеи сворачивают, оглядываясь.
Они остались вдвоем. Она молчала долго, и он не спрашивал, не прерывал тягостного, по крайней мере для него, молчания. Наконец он все же решился.
– О чем ты хотела говорить со мной?
– О тебе, – сказала она мягко, даже вкрадчиво. – Ты что же, болен?
Он резко обернулся. Карен сидела, придвинувшись к столу. Одна рука ее, сжатая в кулак, подпирала подбородок, другая лежала на столе.
– Почему это болен? – спросил он, уставясь на эту руку, как будто увидел в первый раз что-то непонятное. Между прочим, рука была большой красоты, хотя кое-кому она могла бы показаться страшной – сильно удлиненная кисть с узкими сухими пальцами, имеющая в своей цепкости некоторое сходство с птичьей лапой.
– Ну, значит, я плохо тебя лечила.
– С чего ты взяла?
– Потому что только больной будет стоять столбом, когда красивая девушка бросается ему на шею.
– Ты о Линетте?
– Не о себе же. Я, братец, не красивая, не говоря уж о том, что я на тебя не бросаюсь.
– Не лезь не в свое дело!