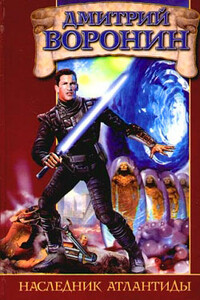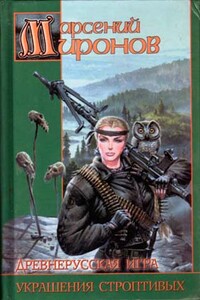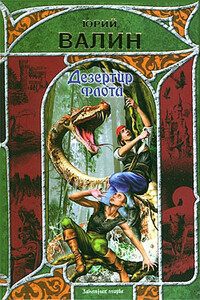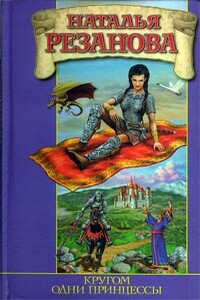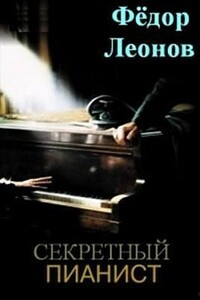Значит, война все-таки затевается? И в тайне от нее? Однако, возможно, еще не поздно, еще можно вмешаться, пока все неопределенно? Или – уже определенно, только Измаилу все равно, с кем воевать? Узнать. Повернуть.
Узнать ничего не удалось. Вернулись в крепость уже затемно, и почти до утра Карен пришлось пробыть около Оффы, прежде чем она смогла удостовериться, что опасность миновала. А назавтра – новое известие. Торгерн незамедлительно отбывает в Малхейм, чтобы осмотреть городские укрепления, а потом, вероятно, в крепость Эгдир на западе княжества – по той же причине. И это после слов «никогда я с тобой не расстанусь». То есть, она как бы и осталась при нем – в крепости, носящей его имя, а он – вне сферы ее влияния, в городе.
Ничего, думала она, пусть погуляет на длинной сворке, пусть погрызет ее. Он испугался своей зависимости от меня, и сделал новый рывок на свободу. Ничего, пусть почувствует себя независимым, тогда, может быть, пройдет эта дурь, тогда, может быть, удастся…
А ведь его следовало бы пожалеть – подумала она как бы отвлеченно и тут же ее всю перекорежило от этой мысли. Пожалеть? Палача? За любовь ко мне? Любовь палача к жертве – можно ли представить себе что-нибудь более отвратительное? И без промедления ответила себе – можно. Любовь жертвы к палачу.
На другой день после отъезда Торгерна она свалилась – заболела. Не было ничего неожиданного в этой болезни, которая редко надолго оставляла ее, и которая – как она знала – рано или поздно убьет ее. Ну, убьет – не убьет, а из жизни выгонит. Она знала, что причиной болезни были раны, полученные в отрочестве, тогда залеченные, но навсегда искалечившие ее тело. Проходила болезнь всегда одинаково – сперва нестерпимые боли во всем теле, потом тошнотворная слабость, потом – ничего. В этот раз отличие было в том, что приступ был тяжелее и короче обычных – необходимость жить в постоянной опасности как бы изменила привычные свойства натуры. Не случайно же в присутствии Торгерна она держалась. А теперь она корчилась от боли и обливалась потом – похожее бывало, когда она чрезмерно расходовала свою силу или не могла стряхнуть с себя чужую болезнь. И хуже всего, что, пока боль, как опытный заплечный мастер, ломала каждый сустав, вытягивала клещами каждую мышцу – сознания она не теряла, она могла думать – о чем? Не возвращалась ли она к предположениям, что мучениями расплачиваются за свой дар? «Нет» – говорила она себе, – «нет». Но все это было для нее странным образом связано – дар, увечье, чистота телесная и духовная.
Боль отпустила так же резко, как и вцепилась. Пришла слабость. Она больше не чувствовала тела. Меня нет. Только дух бестелесный, только разум и зрение, это и есть я. Вот о чем призваны напоминать эти боли. «Носи иго свободы своей…»
Она уснула. Разбудил ее голос Магды где-то в стороне. С начала болезни она запретила Боне и Магде входить в ее комнату, хотя и знала, что они будут подглядывать. Сейчас солнце заливало комнату, и Магда у дверей орала на часового. Тот, в последние дни не слишком соблюдавший свои обязанности, на этот раз, видимо, решил проявить бдительность и куда-то Магду не пускал.
– Да ты знаешь, кто я? – гневалась та. – Я служанка великой княжеской ведьмы. Я ей скажу – она знаешь что с тобой сделает?!
«По ушам бы тебя за такие речи», – подумала Карен и снова задремала. Потом все опять пошло, как обычно, и о болезни сторонний наблюдатель мог догадаться только по походке, в лице и голосе ее ничто не отразилось, но ходить, как всегда, быстро, она пока не могла. Потом и это прошло. Слежка за ней, как обычно в отсутствие Торгерна, уменьшилась, а часового Флоллон и вовсе убрал.
И все шло тихо-мирно, пока не прибыла Линетта.
* * *
Это случилось около Духова дня, который в тот год приходился на середину июня. Говорили, что госпожа прибыла поклониться малхеймским святителям. Сопровождала ее значительная свита, возглавляемая ее дядей со стороны матери.
Карен узнала про приезд Линетты заранее. От Флоллона. Он заметно растерялся. С одной стороны, плохо, что Торгерна нет – дом без хозяина, оскорбление! С другой стороны, оно так вроде бы и лучше… Но Карен была исключительно довольна. В любом случае события приобретают ход. А прятаться ни к чему. И высовываться тоже. Как обычно, в толпе, среди всех… Хотя «среди всех» теперь не получается. Вокруг всегда расступаются. Поэтому на приезд госпожи она поначалу смотрела с галереи, выйдя из Западной башни, опершись о парапет. И хотя госпожу окружало много мужчин, с виду вполне значительных, геройски играющих желваками, или, напротив, сияющих улыбками, и именитые сановники, церковные и светские, самыми высокородными среди них были Сигферт, дядя Линетты и присоединившийся к ним в Малхейме Аврелиан, по мнению Карен, всех их надлежало сбросить со счетов. Она остановила свое внимание на Линетте. Насколько можно было разглядеть сверху, красота Линетты соответствовала тому, что о ней рассказывали. Настоящая «пряха мира», как в песнях поется – высокая, стройная и светловолосая. Свободная одежда не скроет природной статности. Тяжелые серебряные застежки на плаще. На голове повязка из тонкого льна. Светлые волосы заплетены в две длинные косы.