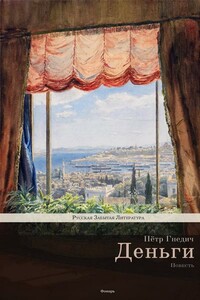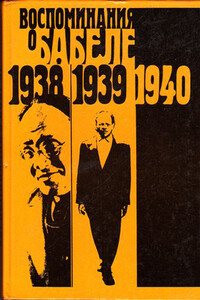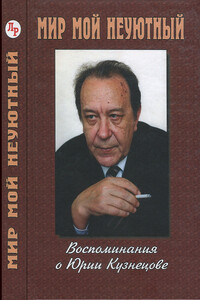Войдя ко мне и поздоровавшись, он огляделся во все стороны.
— Нас никто не будет подслушивать?
— Нет, никто.
Он все-таки подошел к дверям.
— Я эт-то, терпеть не могу портьер на двери, — усмехаясь сказал он. — Совсем незаметно, если кто подслушивает. Что хорошего.
Он вошел радостный, веселый, осмотрел углы и уселся против меня в кресло.
— Эт-то, наконец, то, о чем я все время думал. Эт-то удивительно интересно. Только должны вы помочь мне.
— Чем, Архип Иванович, — говорите.
— Никто не слушает?
— Никто.
— Публикуйте то, что я вам скажу.
— Публиковать?
— Напечатайте. Всю жизнь об этом думал.
— Говорите.
— Я конкурс затеял. Вы слышали — сто тысяч я дал Академии с тем, чтобы на весенней выставке Академия раздала целый ряд наград.
— Ну, что же?
— Разве ничего не чувствуете?
— А что?
— Конкурс-то не ученикам, а профессорам задан! Они должны под контролем печати определить несколько десятков картин — которая лучше, которая хуже. Эт-то, — скажу вам, — я по себе знаю, что это за задача. Тут шевелить мозгами надо! Черт его знает, кто написал лучше. Они не поняли и благодарили… Всколыхнутся. Не будет того застоя, той мертвечины, что теперь. Помогите, напишите об этом.
— Извольте, напишу.
— Вы, кажется, не понимаете, как это важно. И издатели газет не понимают, и публика не понимает. А поймут потом, когда я умру. Вот, скажут, такой старый черт, что он с профессорами сделал. А уж я буду лежать на кладбище, и ничего-ничего со мной не поделать. И завещание мое оформлено, и все в порядке.
Он засмеялся и смотрел на меня своими сощуренными, не то плутоватыми, не то проникновенными глазами.
— Я вам всю свою аферу расскажу, а вы только напишите. Напишите только то, что вы чувствуете, не прибавляйте ничего в похвалу мне или в порицание, совсем объективно… Честно напишите, — ах, у нас так мало честно пишут, все по знакомству…
— Эти сто тысяч, — продолжал он, — деньги небольшие, а между тем свою службу сыграют. Я верю в них более чем во что-нибудь. Больше чем в своих учеников.
Вдруг лицо его омрачилось. Он стал серьезен и пасмурен. Он замолчал.
— Что вы, Архип Иванович? — спросил я.
— Я, знаете… эт-то… Кажется мне, что я жизнь как надо прожил… эт-то сделал, что было нужно сделать… А порою думаю, что эт-то что-то не то.
— Отчего же?
— Оттого что… Ну, может, хорошо меня помянут. Ну, а результат какой же?.. Все-таки в пустышку играл… Ученики были. Хорошие ученики. Мастерская была. И вдруг вижу я, что в сторону они уклонились.
— Ученики?
— Да. Были моими учениками. А теперь они не ученики мои. Мажут. По небу кистью мажут и думают, что эт-то небо… Кровь вся в голову кидается, все дрожит внутри. Думаю: не спал, не ел, шел в мастерскую, всю душу клал за человека, — а он тучи контуром обводит. Понимаете, тучи черным контуром!
Лицо Архипа Ивановича покраснело, глаза стали жесткими и холодными.
— Зачем же я учил их, зачем все внутренности перед ними выворачивал? Как это в Евангелии говорится: на песок или на камень упало? И так напрасно все, и в результате — никому ненужная деятельность.
Он встал, сделал два шага и опять сел.
— Они говорят, отчего я не выставляю своих вещей на выставку. Я не могу.
— Почему?
— Потому что они учить меня будут. Говорить то, что я давно знаю. А я все это уже прошел и пошел дальше. Я знаю, что такое природа, и знаю, что ее не схватить. Я знаю, как надо писать, лучше их, а я знаю, что они скажут: что я пишу в старой манере.
Он опять сутуловато, как старый грач, посмотрел на меня и повел львиной головой.
— Да, я пишу в старой манере! — повторил он. — Как будто у меня была манера! Как будто я всю жизнь не был врагом манеры. Я в каждой вещи новое хотел дать, а они зовут это манерой. А у них не манера?
Он захлебывался и волновался, руки хватали воздух. Он смотрел на меня и не видел.
— А у них не манера? Они гвоздями прибивают к небу облака. Они из булыжника делают воду. Когда издали они увидят меня, то как зайцы бегут в стороны. Я стою перед их картинами и чувствую, что заболеваю.
— Полноте, Архип Иванович, стоит ли того!
— Не стоит? По-вашему, не стоит? Но эт-то… эт-то выше сил. Прежде говорили: "что за мерзость", а теперь прямо говорят: "какой мерзавец!" Легко это? Про моего ученика, про мою плоть и кровь. Ведь когда был у меня в мастерской, как будто чему-нибудь и учился, как будто бы талант. Но мода нужна, мода! Так картины не продаются, так они бегают и мажут, сами зная, что они безграмотны. Им еще учиться надо, учиться, потому что они мальчишки, — а они вместо того дают современную мазню, потому что эт-то легче, потому что не требует серьезно штудировки. Разве эт-то можно…