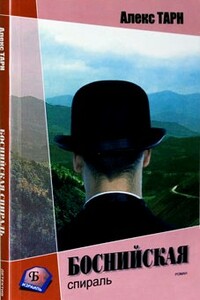Сева даже не поверил, рассмеялся, когда услышал об этом, но Клим ничуть не обиделся, принял этот смех за должное, за саму собой разумеющуюся, обычную реакцию обычного человека, привыкшего для легкости жизни считать сложные вещи простыми, а простые — сложными. Эта обычная реакция подразумевала истинность всем известных договоренностей, таких, как «слова — словами, а дело — делом» или «богу — богово, а кесарю — кесарево», или «надо твердо стоять на земле, а не витать в облаках», или «лучше быть умным, чем правым» и так далее — еще много всякого такого и подобного ему.
Все мы рождаемся на свет, вооруженные простой и ясной логикой, снабженные однозначными соответствиями слов предметам и правил — действиям. Если сказано «нельзя», значит, остановись, не делай. Если сказано «черный», то это именно черный, а не какой-нибудь другой. Но эта простота с первых же младенческих шагов обрастает оговорками и условностями, причем этих условностей с годами становится все больше и больше, так что любое правило и определение может с легкостью обернуться своей полной противоположностью. Сначала взрослые еще немного смущаются, когда ребенок с недоумением спрашивает, отчего это вдруг «черное» стало именоваться «белым».
— Видишь ли, деточка, — объясняет умудренный папа. — Жизнь существенно сложнее. В ней много оттенков. Конечно, ты прав, вообще-то этот предмет черен. Но, с другой стороны, он как бы… это… ну… короче, потом сам поймешь.
Предполагается, что выразить словами эту внезапную неоднозначность невозможно, что ее понимание может прийти только с так называемым «жизненным опытом», посредством общения со сверстниками, воспитателями, учителями. Поэтому со временем смущение взрослых перерастает в недовольство:
— Ты ведь уже большой, должен сам соображать!
— Соображать что? — В каких ситуациях черное становится белым? Но оно ведь не становится…
— Тьфу ты… А ну, немедленно прекрати придуриваться и не притворяйся, будто не понимаешь! Это ведь элементарные вещи!
Так на месте изначального, простого и предельно ясного здания жизни вырастает нелепый приземистый монстр, изобилующий лабиринтами, затхлыми подвалами, многоугольными комнатушками, темными коридорами, тупиками и лестницами в никуда. Жить в нем опасно: того и гляди, лопнет стена, обрушится потолок, хрястнет под ногой гнилая ступенька. Жить в нем противно: крошечные кромешные окна не пропускают света, воздух отравлен канализационными миазмами, и повсюду шныряют крысы. Жить в нем недальновидно: слышите, как трещат подпорки, как лопаются уродливые заплаты? И, тем не менее, все живут именно в нем, объясняя это тем, что больше жить негде.
— Как же «негде», люди?! Вы что, сдурели? А вон то, красивое, правильное, с раннего детства знакомое и отставленное? Вон же оно, совсем рядом — сияет чисто вымытыми окнами…
— Ах, это… так это ведь не работает…
— Да с чего вы взяли?
— Ну как… все знают. Кончай придуриваться, элементарные ведь вещи…
Элементарные… за пару десятилетий ежедневного битья по голове и не такое покажется элементарным. Впрочем, время от времени попадается особо крепкая голова, например, как у него, Клима.
Такими, или примерно такими словами, в несколько мучительных для обоих подходов обрисовал Клим свою нешуточную проблему. В то время ему исполнилось двадцать семь, он был на шесть лет старше Севы — пропасть для такого возраста, и, тем не менее, слушая его, тот постоянно напоминал себе, что разговаривает с Климом, а не с каким-нибудь прыщавым тринадцатилеткой. Проклятые климовы вопросы казались книжными, надуманными, глупыми, оторванными от реальности. Так говорят и ведут себя герои воспитательной литературы и дидактических фильмов. В жизни же подобная роль отведена только дуракам и блаженным.
Но в том-то и дело, что Клим явно не подходил под оба этих определения. Он полагал свои поиски правдивой системы правил и соответствующего ей правильного образа жизни чем-то сугубо нормальным, свойственным всем и каждому и только по глупости или по лености загнанным куда-то далеко под самую нижнюю ступеньку в иерархии человеческих приоритетов. Ну что, к примеру, ненормального было в том, что он не пожелал катиться по жлобскому желобу своих братьев-алкоголиков? Или в том, что и в институтских компаниях, которые поначалу казались захватывающе интересными, он через год-другой обнаружил такую же скуку, хотя и намного более многословную?