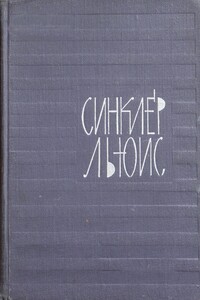И она вдруг заметила – впервые, – что вид-то у него здесь совсем не лихой, а скорее невыносимо печальный. Будто храбрится мальчик, изо всех сил старается показать, какой он мужественный и бравый, а глаза выдают. Прямо просят: «Ну посмотри на меня внимательно! Ну догадайся же, как мне без тебя плохо. Приезжай или хоть напиши что-нибудь ласковое, хорошее…» Как она сразу, еще тогда, этого не поняла и не услышала? Впрочем, тогда ей было
ведь не столько лет, как сейчас, и совсем другой жизненный опыт… Наталья Андреевна перевернула снимок. На обороте четким, почти печатным шрифтом – строки из стихотворения:
Давай с тобой так и условимся,
Тогдашний я умер, бог с ним,
А с нынешним мной остановимся
И заново поговорим…
Ниже дата, название далекого портового города и корабля, где служил Воронцов, размашистая подпись.
Последняя его фотография. Дмитрий прислал ее вместе с письмом, в котором с отчаянной, но напрасной надеждой пытался изменить то, чего изменить было уже нельзя.
Глядя на эту фотографию, она и написала показавшиеся ей тогда очень остроумными слова о белых офицерских перчатках, при воспоминании о которых стыдом вспыхнуло сейчас лицо. Почему-то тогда именно его щеголеватый вид и эти самые белые перчатки особенно ее разозлили. На самом деле, как она поняла сейчас, в глубине души и тогда ей была ясна, скажем так, неэтичность ее поступка, и резкостью слов она пыталась заглушить, выражаясь старинным стилем, «голос совести», переложить вину на него, якобы не желающего войти в ее трудное положение…
Наталья Андреевна вздохнула и поставила фотографию на полку, лицом к двери.
Выходя, еще раз оглянулась. «Вот и стой так. Хоть какой мужик в доме».
Пожала плечами, удивляясь сама себе. И заспешила.
Торопясь, Наташа шла, почти бежала в сгущающейся перед входом в метро толпе, невыспавшейся, раздраженной, норовящей наступить на ногу, столкнуть в лужу, ударить под коленки узлом или чемоданом, обругать без повода…
А сверху все сыпал мелкий, серый, нудный дождь.
Совсем как там.
Во сне…