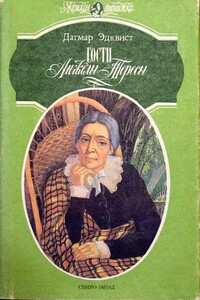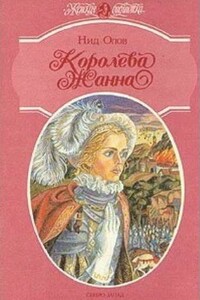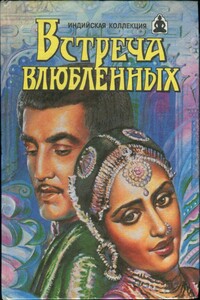Она сердится на себя за радость, которая трепещет в ее груди. Но осилить ее не может.
«Сейчас увижу его! Наверно, ждет у рощи… А если нет?… О, тогда конец! Всему конец… Я не прощу его никогда… Идти? Или остаться? Пойду… Взгляну. Холодно взгляну. Но к нему не подойду ни за что!.. И в парк не пойду»…
Так и есть! Стоит у опушки… Без экипажа…
— Что вы тут делаете? — надменно спрашивает она.
— Жду…
— Как вы самонадеянны! Почему это вы вообразили, что я должна прийти?
Его ноздри вздрагивают от сдержанной улыбки.
— Вы пришли, — говорит он чуть слышно.
— Но это ничего не доказывает! — вспыхивав она и топает ногой. — Я гуляю…
— Позвольте мне вас проводить.
— Незачем! — небрежно говорит она.
Но тут же, без всякой логики, берет предложенную ей руку и молча идет рядом, к парку. Его смирение обезоруживает ее.
Нет… Даже не то… Зачем лгать перед собою? Только вдали от него она может презирать его, не считаться с ним. Его близость так пьянит ее, что сладкое и страшное безволие сковывает ее душу. Как это ново! И это мучительное томление… И эта странная неудовлетворенность… И тревога… С Яном все было иначе. С Яном было так тихо и светло! Точно два мира каждый отдельно дали ей эти оба.
— Какой у вас голос! Какой вы тонкий художник! Отчего вы не на сцене? Отчего вы мне не говорили, что поете? Когда я услыхала ваш голос, я простила вам все…
— Простили?… Разве я виноват перед вами? Она молчит, враждебная и насторожившаяся.
— Впрочем, вы правы, — говорит он печально. — Прошлое не умирает.
Она молчит всю дорогу, далекая и враждебная.
— Расскажите мне о вашей жене, — говорит она, сидя с ногами на тахте, в кабинете.
Штейнбах рядом. Их разделяет только вышитая подушка. Но для него это стена, через которую он не видит души Мани. У нее новое лицо. Даже голос новый… И чужой…
— Она очень хороша собой? Вы ее очень любите? Почему ее здесь нет? И почему вы несчастны, если женаты? Постойте! Какая она из себя? Брюнетка или блондинка? Ну, что же вы молчите? И, пожалуйста, не смотрите на меня! У меня мысли путаются, когда вы смотрите. Опустите ресницы! Слышите? И отвечайте по порядку!
Его губы опять кривятся.
— Начните с начала, пожалуйста! Первый вопрос исчез среди других.
Она вспыхивает.
— Опустите глаза и перестаньте гримасничать! Вы отвратительны, когда улыбаетесь. Впрочем, нет… Можете смеяться! Чем хуже, тем лучше! Ну-с? Я слушаю… какая она из себя? Блондинка?
— Да.
— Еврейка?
— Да.
— Ну, конечно, — с презрением подхватывав! Маня. — Дядюшка говорит, что еврей может влюбляться в кого угодно. Но любить может только еврейку. И жениться только на еврейке…
— Федор Филиппович, надо думать, очень осведомлен в этом вопросе… Он тоже юдофоб?
— Что значит тоже?
— Я хотел сказать, как вы?
— Я сама не знаю, что я такое! — сердито говорит Маня. — Да, я терпеть не могу жид… евреев! Но вас я любила…
Он делает порывистый жест и хватает ее руки.
— Вы? Меня?
— Чему вы обрадовались? Не люблю, а любила. Несколько дней… Может быть, часов… И даже не вас, а ваше лицо… брови… Пустите руки! Пожалуйста, не целуйте! Мне от вас теперь ничего не нужно! Все очарование исчезло…
— Когда?
— Третьего дня… Марк… Марк… Вы с ума сошли?!!
— Я счастлив!.. Боже… Как я счастлив!..
Он берет ее руки и закрывает ими глаза свои. Его ресницы вздрагивают.
И вдруг какой-то мостик, на котором Маня укрепилась, скользит под ногами. Шатается. И опять бездна чувствуется внизу. Сердце падает. Она близка к обмороку. Что-то фатальное, жуткое глядит на нее яз этих глаз, из этого лица. Хочется бежать.
Или этот страх — радость, которая затопляет душу? О!.. Прижаться к его лицу! К его бровям я губам! Утонуть в этом чувстве… В этом запахе его кожи и волос…
Совершенно не отдавая себе отчета в том, что она делает, в опьянении она порывисто берет его за плечи. И, закрыв глаза, прижимается лицом к его губам.
— О, целуйте меня! Целуйте!. - сквозь зубы говорит она. И вся дрожит.
Когда она приходит в себя, лицо ее залито слезами.
Он на коленях, у ее ног. Его лицо спрятано в складках ее платья…
Что было сейчас? Где? В каком новом, неведомом мире блуждала ее душа?
Она берет его за руку, пальцы которой судорожно впились в плюш тахты. И кладет ее на свое вздрагивающее сердце…