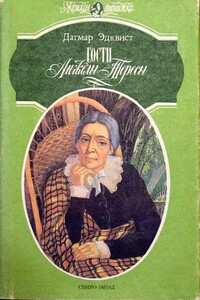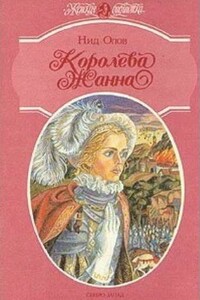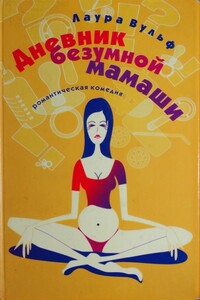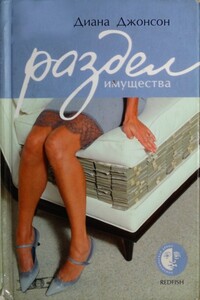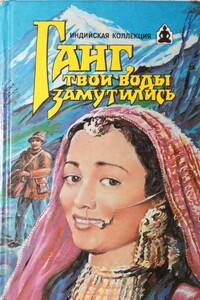Он целует это письмо.
Но разве та Маня не умерла давно? Разве знает он эту, которую обнимал вчера?
— Здравствуй, Маня!
— Здравствуй, Марк.
Его голос срывается. Он стоит перед нею бледный, растерявшийся, с внутренней дрожью, от которой трепещут его губы и руки, со страхом изучая ее лицо.
Она чуть-чуть улыбнулась, покраснела. И спокойно протянула ему руку, к которой он прижался губами. Он целует эту руку страстно, с благодарностью. Разве нужны слова? Одним движением губ, легким трепетом пальцев, беглой улыбкой можно дать ответ. Положить конец его сомнениям.
Но она спокойна и ясна, как девочка. Единственная перемена в ней — это радость. Тихая, глубокая радость осуществления. Не та опьяняющая жажда жизни, которой веяло от нее год назад. Это что-то другое. И Штейнбаху чудится, что он и его любовь стушевались, утонули в тени того большого, того нового, что вошло в ее душу теперь.
— Когда мы едем к Изе?
— Хоть сейчас! Вот уже неделя, как она на ждет.
— О Марк! Поедем нынче! Поедем вечером.
— Почему вечером?
— Потому что днем я одна, а вечером другая. У меня не только другие глаза, рот, походка, у меня вечером другая душа! Неужели ты до сих пор этого не знаешь?
Ниночка плачет и капризничает в комнате рядом.
— Что с нею? Жар?
— Нет. Могла бы я разве быть счастливой, если б у нее был жар?
«Значит, ты счастлива?..» — хочет он спросить. Но не смеет.
— А все-таки этот плач действует на меня так точно на душу камень кладут. Все притупляется разом. И знаешь, что я заметила? Я дома одна, на улице другая. Это меня даже тревожит.
Она вдруг улыбается. И левая бровь ее капризно подымается.
— Не могу же я иметь две квартиры: одну для дневной, другую для вечерней жизни.
— А! Ты заметила зависимость артиста от повседневного!
Он опять берет ее руку и целует в страстном порыве. Она вдруг широко открывает глаза. С неподдельным изумлением. Смотрит одну секунду.
Довольно! Он понял. Он встает и подходит к окну.
«Она уже не любит меня».
— Едем, Марк, к тебе, — серьезно, озабоченно говорит она, через полчаса входя в комнату, уже одетая, в шляпе.
— Маня! Как красиво! Где ты сшила это платье!
— Сшила! Я купила его готовое в Вене. У меня нет еще денег, чтоб иметь портниху. Но неужели тебе нравится это платье? Эта идиотская мода?
— Ты прекрасна. Вот все, что я вижу!
— Когда у меня будут деньги, я отвергну моду или создам ее сама, как это делала Башкирцева [90]. Одеваться как все — в этом есть что-то возмутительное! Но я смиряюсь пока.
— Ты хочешь позавтракать со мною?
— Нет. У тебя есть рояль?
— Клавесин.
— Ты должен мне сыграть то, что будет слушать Иза.
— А! Вот что. Едем.
Она сидит у камина, обхватив колени руками, склонив стан. Она стала словно выше ростом в этом платье. Корсета она не носит. У нее девственная грудь и гибкая фигура. Каждое движение ее музыкально. Это не прежняя Маня.
Вот здесь вчера она отдалась ему. Когда она входила, он глядел в ее лицо, ища признаков волнения. Один жест, один штрих. Ничего! Она словно все забыла. Или как будто это был сон. Она так полна своими мыслями, что не только не волнуется рядом с ним, она о нем забывает.
— О чем ты думаешь, Маня?
— Я, кажется, нашла, Марк. Все, что ты играл там, сейчас, идет в разрез с моим настроением. Ты слышал «Полет Валькирий»? У тебя есть Вагнер?
— Н-нет. Можно послать сейчас в магазин.
— Но сумеешь ли ты сыграть? Переложено ли это для рояля? Ах, Марк, если это мне нынче не удастся… Ты звонил ей?
— Да, не волнуйся.
Он садится на ковер у ее ног. И, обняв ее, прижимается головой к ее груди. Она остается недвижной.
— Я все-таки не знаю до сих пор, что хочешь ты рассказать своей пляской.
— Историю моей души. А… ты удивлен?
Она обнимает его рукою, как будто рядом с нею брат или товарищ.
— Не знаю, что поймет в этом Иза? И поймет ли она вообще. Но ты должен знать. Твоя музыка создает мир. Это будет история моей души.
— Любви?
Она отодвигается и внимательно смотрит в его насторожившиеся глаза.
— Нет. Почему именно любви? Разве без нее уже ничего нет в жизни?
«О, как много в этой фразе! Прощай Маня-девочка! Ты уже не вернешься».
— Моя пляска нынче — это то, что было. И то, что будет.