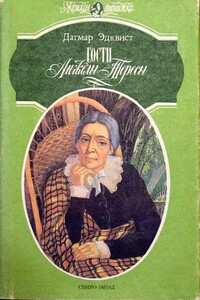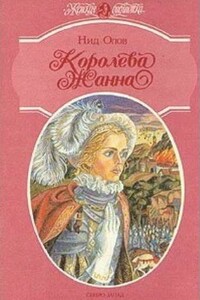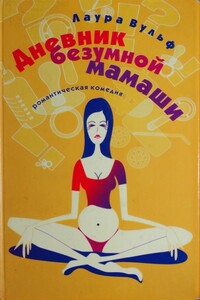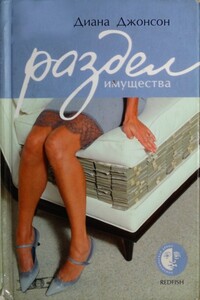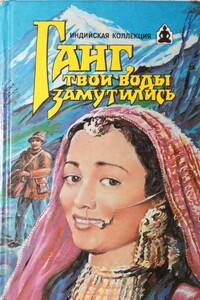Штейнбах внимательно приглядывается, вкрадчиво подает реплики.
Рыжая женщина перестала смеяться. Она как будто только сейчас заметила Маню, ее близость к Штейнбаху, ее юность. Растерянно поднялись ее брови. Она что-то рассеянно отвечает подруге. Та переспрашивает. Нет, как досадливо она двинула плечом!
Вот она опять идет мимо.
Маня вдруг перестает смеяться. Даже не окончила фразы.
Штейнбах, не оглядываясь, чувствует близость той, другой, за своей спиною. Нервы его напряглись. Он глядит в лицо Мани, сам неподвижен, как изваяние. И ясно видит ее яркий режущий взгляд. Ее рот, надменно сомкнувшийся.
Так вот что! Он опускает голову. Спокойно с виду покусывает ручку трости. Но сердце его стучит.
— Хотите еще чего-нибудь? — спрашивает он, встрепенувшись. И даже голос его изменился.
— Нет! Надоело сидеть, — говорит фрау Кеслер.
— Prego, pegare! — бросает он проходящему гарсону.
Эта минута, пока гарсон пишет счет и Штейнбах расплачивается, кажется бесконечной и ему и ей.
Она перешла на другую сторону. И опять стоит в Десяти шагах. Голоса ее спутников заглушают музыку. Наверно, глядит на него. Опять смеется? Мане нельзя повернуться лицом к ней.
Это значит выдать себя. С головой выдать.
Она встает внезапно и берет его под руку.
— Пойдем скорей! — говорит она, задыхаясь.
Он хочет повернуть назад. Но она с необычайной силой тянет его навстречу той. Как тесно прильнула она к нему! «Дрожит вся? Бедненькая. Так неужели…» Вот они рядом, друг против друга. Их платья Касаются, так близко проходит Маня. Она глядит в это белое, нежное лицо, которое доставило ей столько страданий, столько бессонных ночей! Хочется запомнить все линии, разрез серо-голубых глаз, выгиб уст — все очарование этого лица, которое пленило Штейнбаха, заставило его обмануть, изменить любви, втоптать в грязь ее душу, разбить ее иллюзии. Навсегда запомнить. Зачем? Ах, чтоб уж никогда-никогда не верить! Никогда не отдавать души. Не знать унижения. Не плакать. Чтоб искать свое счастие и свою силу в другом!
Штейнбах идет мимо своей медленной, вкрадчивой походкой. Лицо его бесстрастно. Глаза холодно глядят поверх головы с рыжими пышными кудрями на колонны Прокурации.
— Как хороша, как горда! — говорит фрау Кес-лер, улыбаясь рыжей женщине.
Маня хотела бы сделать торжествующее лицо. Хотела бы бросить звонкую фразу и беспечно засмеяться. Но глаза ее полны страха перед красотой этой простолюдинки. И губы ее, вместо улыбки, застывают в страдальческой гримасе.
— Мы можем выехать завтра, Марк? — спрашивает Маня.
Она лежит одетая на софе, с пледом на ногах. Ее знобит, хотя камин топят с утра, а на небе весеннее солнце. Глаза ее ввалились. Губы высохли.
— Но как же мы уедем, когда ты больна?
— Я здесь никогда не поправлюсь.
Фрау Кеслер говорит ему тихонько в коридоре.
— Она опять не спала всю ночь. Прислушивалась к чему-то, бродила, плакала… и… писала… кажется…
— Что такое?
— Она писала, Я слышала шелест бумаги, скрип пера.
— Письмо?!
— Н-не знаю… Должно быть… Они молча глядят друг на друга.
После завтрака Штейнбах с напряженной улыбкой говорит:
— Одевайтесь! Прокатимся в город! Погода чудная. Я уже взял билеты, и завтра мы выезжаем во Флоренцию. Купим себе на память о Венеции безделушек.
— Вот и прекрасно! Ну, улыбнись же, дитя мое! — На Мерчериа, среди шумной толпы жителей и туристов, они стоят перед витринами.
— Маня, что тебе хотелось бы на память. Выбирай, — говорит он.
В его жестах и лице, сквозь привычную выдержку, проскальзывает какая-то тревога, нервность.
Маня видит за стеклом картину: синяя ночь и черный силуэт Дворца Дожей. Та самая, что пленяла ее в детстве. И в такую ночь, у этого Дворца, она вдруг упала с неба, и душа ее разбилась.
— Агата, купи мне эту картину, — говорит она сухо и твердо. — Я повешу ее над своей головой, как другие вешают икону.
— Ты так любишь Венецию? Зачем же мы уезжаем отсюда?
Не отвечая ей, Маня входит в магазин. Она спрашивает открытки. Перед нею раскрывают картоны. И она все забывает. Воспоминания обступили ее.
— А где Марк? — через полчаса вспоминает она.
— Кажется рядом, в магазине мозаик. Он ищет Цепочку для Сони.