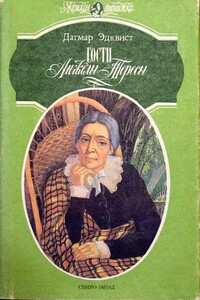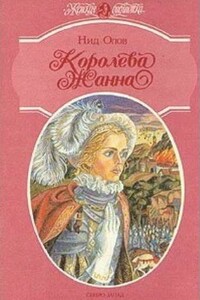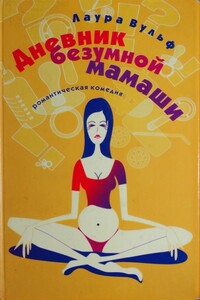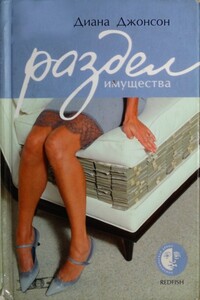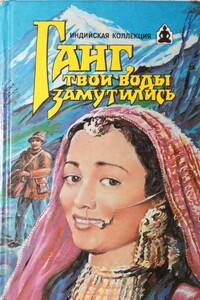И если он немедленно кинулся на юг, за границу, — он, не хотевший раньше слушать Климова и других докторов, — то не жалость к Мане руководила им, а только страсть! Одна страсть.
Он встает, ходит по комнате, стиснув зубы, тихонько хрустя пальцами. Откидывает занавеску окна. Далеко впереди белеет пляж бухты. Стемнело, но полоса воды резко отделяется от земли. Белые барашки на волнах видны даже отсюда. Опять будет буря. Надо пойти в бухту. Вот только догорит огонь. Он садится и закрывает глаза.
Засверкала вода лагун. Мрак прорезали огни электричества. Наконец!
Не дожидаясь facchino[77], он сам берет свой портсак и соскакивает со ступеньки вагона. Свет, шум, крики. Целая толпа озабоченных туристов. Он идет к выходу. Он хочет спросить: Palazzo Manzonni? Где же это? Наверно, отель? Он там остановится. Видеть ее! Видеть сейчас. Сказать… Что сказать?
Вдруг толчок в сердце. И он останавливается.
В десяти шагах от себя он видит высокую, черную фигуру в плаще. Видит знакомый хищный профиль.
Это кошмар…
Нет. Бледное лицо оборачивается, и темные глаза глядят ему в зрачки. Так остро, так глубоко глядят они! Столько холодной злобы в этом лице.
О! Все понятно… Раз он здесь…
Его толкают набежавшие сзади люди. Сердятся. Что они говорят? В ушах тихий звон.
— Pardon, — машинально говорит он какому-то толстяку. И, не отдавая себе отчета, повинуясь инстинкту, он поворачивает. Идет обратно. Куда? Все равно! В одном городе им тесно.
— Partenza[78]! — раздается вдали крик кондуктора. И поезд уходит. А он остается на пустеющей платформе.
А потом?
Все как во сне.
Он помнит, как очутился у ступенек, залитых водой. Как черная вода плескалась и сверкала. Когда он садился в гондолу, его спросили адрес. Он махнул рукой.
— Palazzo Manzonni, — услыхал он в эту минуту-голос рядом. И высокая фигура в черном шагнула в другую гондолу.
Он плыл впереди. Тот за ним, как черная тень. Спрятавшись под сукно кабинки, он глядел в маленькое оконце. Ясно различал он зловещий силуэт, сгорбившиеся плечи, опущенную голову.
Он ехал к ней. Они вместе.
Как бесконечно, как мучительно долго плыли они! Так бывает только в кошмаре.
Ветер пахнул в лицо. Волны забились о ступени дворца… Электрические солнца все заливали своим беспощадным светом.
Куда бы спрятаться? Остаться одному.
Хочется завыть, как зверь.
— Grand Hôtel signore! [79] — тоном, не допускающим возражения, говорит гондольер. Из вестибюля выскакивают лакеи.
Он оглядывается. И видит гондолу, пересекающую канал. Видит выпрямившуюся теперь черную фигуру. Бледное пятно лица. Видит темный силуэт палаццо напротив. И в окне наверху свет.
Быть может, ее окно?
Что он говорит? Что надо отвечать?
Кто-то выхватывает у него дорожный мешок. Его ведут в бельэтаж.
Навстречу идет человек. Он так бледен. Так страшно его зацепеневшее лицо.
Этот человек сейчас совершил преступление.
Вдруг он упирается в зеркало.
«Так это я? Я».
— «A droite, monsieur!»[80] — Он поворачивает, как автомат. И идет с каменным лицом, повторяя все жесты метрдотеля…
Из письма М. Штейнбаха к Соне Горленко
Январь. Венеция
…Итак вы уверовали в чувство Нелидова? Как вас легко подкупить, мой друг!
Я не сомневаюсь в его болезни. Охотно верю в его страдания. Это страдает гордость его.
Но знал ли он когда-нибудь, что такое любовь?
Я говорю вам, он ее не знал.
Что любил он в Мане? Ее губи, глаза, ее коси, ее тело. Как дикарь, любил он в ней свои ласки и желания.
Но знал ли он ее душу? А когда ему пришлось открыть в ней эту мятежную душу, не отверг ли ом ее враждебно? Он с наивностью дикаря бессознательно отрицал в Мане этот богатый, сложный и загадочный мир ее души. Самое ценное, что есть в ней, что выделяет ее из толпы.
Дрожал ли он перед ее задумчивым взглядом? Остановился ли он хотя бы раз в трепете перед вечно волнующей загадкой женского желания? Такого неуловимого? Изменчивого? Плакал ли он от счастья, когда, отдавая ему свое тело, она искала его души в этом экстазе, какого никогда не дает голая чувственность и ее яркие радости? Которые знает одна любовь. Скорбная, трагическая любовь.
Принимал ли он как неизбежный закон жизни ее внезапное отчуждение? Холод ее взгляда? Равнодушное пожатие руки?