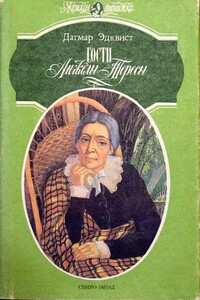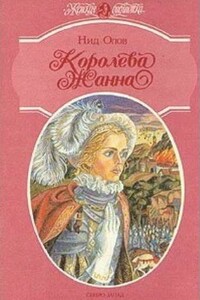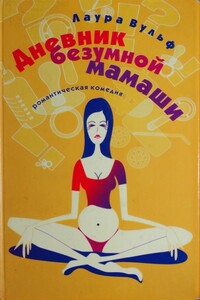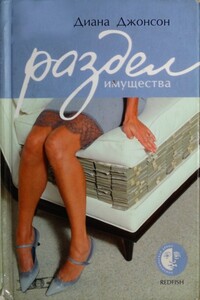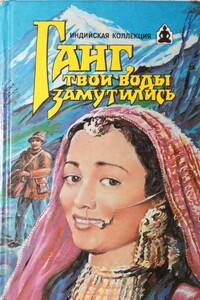Подплывает гондола с двумя гребцами. На кабинке черного бархата вышиты золотом гербы Штейнбах оглядывается на Маню.
— Дай руку! Садитесь…
— Мы поедем по воде? И земли не будет? Не будет?
Знакомый горячий шепот! Очарованием веет от него. Он чувствует трепет ее пальцев. Как прежде… Как прежде…
— Холодно, однако! — говорит фрау Кеслер и накидывает Мане на плечи платок. — Закройте ей ноги пледом.
— Войдем в кабинку. Хотите?
— Нет… Нет… Ни за что!
Вот она таинственная, старая, когда-то страшная Венеция, деспотично царившая над всем Средиземным морем… Кто не чувствовал на себе ее железную руку? Унгры, мусульмане, сарацины отступали перед нею. И даже непобедимые норманны считались с ее флагом. Она владела Константинополем. Она диктовала свои условия в Европе и Азии. Она воевала за Гроб Господень.
Теперь она спит, каменная сказка Востока. Грезится ли ей былое величие?
По лабиринту ее узких зловещих каналов плывут они, заблудившиеся странники иной, далекой земли.
Словно лодка Харона по таинственному царству Смерти, бесшумно скользит их гондола под арками мостов, перекинутых через каналы. Маня смотрит вверх. Какой старый камень! Он плачет. Слезы капают с его серых морщинистых щек.
Беззвучные, как тени, показываются впереди гондолы. Когда они хотят завернуть за угол, гондольер издает резкий крик ночной птицы.
— Куда же мы едем, наконец? Я замерзла, — говорит фрау Кеслер, когда их лодка пересекает канал. — И чья эта гондола?
— Мы едем в мой палаццо. Я его купил три года назад у разорившегося венецианца. Это его гербы на бархате.
Что это за дивный храм вырастает перед Маней? Словно плывет из мрака навстречу. Белый, призрачный… Ах, видеть все это завтра! Можно ли спать в Венеции?
Гондола упирается в ступени дворца. На лестнице их ждет высокий человек в сюртуке. Ветер треплет его волосы. Двое лакеев в ливреях держат зажженные канделябры. Свет их мечется, дрожит и искрится в темной воде.
Они входят в огромный, мрачный вестибюль. Полы Из мозаики. На стенах фрески. Все здесь осталось почти так же, как было четыреста лет назад. Нет ни газа, ни электричества. В огромном камине пылает огонь.
— Какое счастье!.. Тепло… Маня… Что ж ты не идешь?
Штейнбах выходит за нею на подъезд. Прислонясь к мраморной колонне, Маня глядит на сверкающую линию старых дворцов.
— Ты видишь наискосок отсюда двухэтажный старый дом? Предание говорит, что в этом доме жила Дездемона.
— Вон там?… Марк… Неужели…
— Сохранился балкон. В лунные ночи она выходила. И долго стояла там… И перед нею был вот этот палаццо, где мы сейчас… И этот белый храм… Ты видишь балкон?
— О, Марк…
Он знает значение слов. Встает хрустальная стена. Поднимается сказочный мир.
Они идут наверх. Их тени сгибаются, сплетаются, бегут по стенам, пляшут на плафоне, Из темноты сверкает позолота рам. Белеют пятна лиц. Старые портреты провожают их глазами с тонкой, печальной усмешкой тех, кто все пережил, кому все понятно.
«Не сердитесь! — думает Маня. — Я знаю, мы не должны смеяться здесь, где вы умирали. Но мы будем говорить шепотом и двигаться, как тени… Мы не потревожим ваш покой…»
В бельэтаже, в зале, озаренном старинной люстрой с восковыми свечами, все накрыто к ужину.
— Вот твоя комната, Маня, — говорит Штейнбах. И отворяет дверь на балкон.
Ветер вздувает тяжелый шелковый занавес.
Они молча смотрят на канал. Огни в отелях гаснут. Поездов больше не будет до утра. Только у входа горит электричество, и сверкающая рябь бежит по воде.
Вдали темным пятном встает дворец Дездемоны. Быть может, она никогда не жила здесь? Быть может, она жила только в душе поэта? Но зачем нужна правда? Только то прекрасно, что никогда не жило.
Какое наслаждение плыть вдвоем мимо этих дворцов, величаво дремлющих, как бы в заколдованном сне! На стенах ветер и дожди смыли дивные фрески Сансовино, Тициана и Джорджоне. Сырость начертала на них свои причудливые узоры. И они стали перламутровыми. Время коснулось их своей рукой. И они стали загадочными и прекрасными. Так прекрасно только отжившее. Глаз не может насытиться этими неуловимыми оттенками мрамора.
— Взгляни направо, на этот ряд. Все это здания пятнадцатого столетия. Здесь жили дожи, патриции, великие художники — Тьеполо и Тициан… вон там, где терраса…