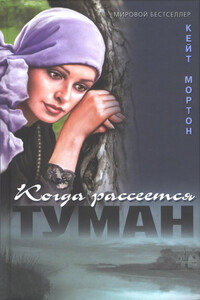Мне довольно трудно так описать вам самого доктора, чтобы вы смогли составить себе о нем правильное представление. Он не тратит сил на то, чтобы произвести впечатление и завоевать себе определенный социальный статус. В своих привычках он очень умерен, даже, можно сказать, аскетичен. В обращении с другими он весьма корректен и вежлив. У него совершенно нет предубеждений. Доктор Сарториус начисто лишен тщеславия — поэтому его невозможно ни обольстить, ни оскорбить. Вы удивитесь не меньше моего, если узнаете, как столь беззаботно относящийся к полезным связям и столь непретенциозный человек сумел найти такие огромные ресурсы, которые были необходимы ему для проведения задуманной работы. Но это истинная правда — он не пошевелил и пальцем ради того, чтобы все организовать. У таких людей все получается как бы само собой, они просто не препятствуют естественному ходу вещей. Доктор Сарториус умело использует то, что в данный момент оказывается под рукой, и делает именно то, чего от него ждут его ревностные поклонники и почитатели. Все выглядит так, словно происходит само собой. Как будто и сам доктор Сарториус существует благодаря тому, что в нем концентрируется некая магнетическая сила.
Меня отвели к Сарториусу лишь на второй или третий день после того, как я пришел в себя. Я не имел никакого представления тогда, да, впрочем, не знаю и сейчас, где находился все это время. Во всех помещениях, где мне довелось побывать, было искусственное освещение. Короче говоря, после Симмонса и Врангеля Сарториус оказался третьим человеком, которого я увидел. Доктор вел себя очень скромно, как обыкновенный лечащий врач Огастаса, как его слуга. В этом отношении он ничем не отличался от докторов, которые кормятся тем, что пользуют одного-двух состоятельных пациентов.
Единственное чувство, которое я испытал, был гнев. В конец концов, я имел на него полное право. Я законный сын Огастаса, и мне не подобало терпеть столь пренебрежительное отношение к своей персоне. Я громогласно потребовал объяснений: не исходило ли такое обращение со мной из распоряжений моего собственного отца? Это было в его стиле — впутывать в наши родственные отношения третьих лиц. «Он что, до сих пор боится встретиться со мной? — спросил я. — Он все еще боится отвечать на мои вопросы?» Я просто кипел от негодования, а Сарториус хранил полнейшую невозмутимость. Небрежным тоном, словно стремясь просто удовлетворить свое любопытство, он поинтересовался, каким образом мне удалось узнать, что мой отец жив.
«Я видел его своими глазами, сэр, — ответил я. — И не надо разговаривать со мной таким покровительственным тоном. Я вскрыл могилу в Вудлоне, в которой вместо моего отца лежал ребенок».
Сарториус не испугался, напротив, мои слова лишь возбудили его интерес. Он подался вперед, упершись в стол руками, и стал с любопытством меня разглядывать. Я поведал ему историю нашей поездки в Вудлон и как был вскрыт гроб. Затем я почувствовал необходимость рассказать доктору всю предысторию — как я во время снежной бури увидел в белом экипаже призрак своего отца и все прочее. Разговор повернулся именно так, а не иначе, потому что я ощутил необъяснимое доверие к доктору Сарториусу. Я не понимаю, почему это произошло, но это произошло, и я почувствовал облегчение, словно с моей души упал тяжелый камень.
«Всегда существует возможность ошибиться при таком беглом взгляде, тем более во время снежной бури, хотя… — задумчиво проговорил доктор Сарториус, — мне нравится, как вы отнеслись к своему видению. — В его взгляде обнаружилось искреннее одобрение. — Кто вы по профессии, мистер Пембертон?»
Это очень трудно понять, но ни тогда, ни в последующем Сарториус не пытался что-либо отрицать, либо спрятаться за двусмыслицы. Более того, он ни разу не пытался сказать ни одного слова в свое оправдание. Мое появление возбудило в нем интерес, но отнюдь не тревогу или озабоченность. Во время самой первой встречи я чувствовал себя как некий забавный биологический вид, попавший в поле зрения Сарториуса и подлежавший изучению. Он настоящий, прирожденный ученый. Доктор Сарториус никогда не помышляет о том, как оправдать и защитить свои действия. Совесть и ее муки не омрачают его души… Однажды я поинтересовался его вероисповеданием. В детстве он был воспитан в лютеранской вере, но рассматривал христианство как красивый поэтический обман. Он полагал это настолько само собой разумеющимся, что не пытался даже спорить с положениями богословов, высмеивать их или иным способом опровергать догматы христианского вероучения.