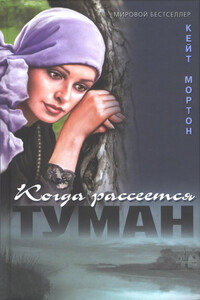Прошла череда дней. Мартин научился самостоятельно принимать пищу, и состояние его несколько улучшилось, но страшная, глубокая отчужденность оставалась прежней. Доктор Мотт утверждал, что больной в сознании, так как реагирует на резкий звук и поворачивает голову к источнику света. Создавалось впечатление, что Мартин погружен в состояние медитации, которое сделало совершенно ненужными всякие внешние раздражители. Помнится, я сидел возле его постели и изо всех сил пытался представить себе природу этой философической медитации. Что может быть ее содержанием? Была ли это та глубина погружения в сущность бытия, когда человек становится способным лицезреть Бога или слышать музыку мироздания? Но вы понимаете, что познания в метафизике обычного газетчика весьма и весьма ограничены. Я хорошо знаю нашу американскую породу. Мы вступаем в жизнь полными сил, как стручки, готовые лопнуть от налившихся соком горошин. Мы ненавидим рутину, порядок и монотонность, мы готовы воспринять нормы американской коммерческой жизни. Мы полны мальчишеской, безответственной любовью ко всему новому, тому, что может бросить нам нешуточный вызов. Когда я начинал работать, первыми моими заданиями были — вступать на борт трансатлантических пароходов, добравшись до них в лоцманском корабле, и раньше всех добывать свежие европейские новости. Мало-помалу мы обзаводимся собственными лодками и начинаем посылать на подобные задания других, пожиная лишь плоды… Но тем не менее мы всегда остаемся на земной почве, наша душа устремлена к жизни, земной, практической жизни. Нам кажется, что все, что происходит, происходит вовремя и к месту. Мы все охвачены страстью к сиюминутным общественным и политическим событиям. Что касается смерти… ее мы считаем чем-то ритуальным. Своя или чужая смерть никому не интересна — это уже вчерашняя новость, недостойная внимания.
Но вот свершилось невероятное — передо мной лежит мой независимый автор — не живой и не мертвый, находящийся примерно в таком же состоянии, в каком пребывал когда-то его отец. Сознание этого факта внесло немалое смятение в мою репортерскую душу. Это было испытание моей уверенности в том, что жизнь, какие бы нелепые сюрпризы она ни преподносила, никогда не выходит за рамки разумного хода вещей, не переступает пределов возможного. Только в госпитале я понял, как сильно я зависел от Мартина, так же сильно, как и все, кто его знал. Мы все следовали в жизни его неведомым для нас предначертаниям. Мы только сейчас начинали нащупывать корни, которые он успел выкопать из земли задолго до нас. Я чувствовал большую потерю, ощущал себя покинутым и обманутым. Я находился в таком состоянии, что был готов надеть на голову монашеский капюшон, встать в углу на колени и молить Господа, чтобы он избавил меня от горечи лицезрения этой смерти заживо.
Правда, кое-какое утешение у меня имелось. Я каждый цепь видел Эмили Тисдейл. Мы сидели возле Мартина, разделенные его постелью. На это время мисс Тисдейл забросила учение. Девушка вполне доверяла мне и отваживалась произносить при мне слова, которые не осмелилась бы сказать Мартину. Она пользовалась тем, что Мартин, погруженный в себя, не мог ни слышать, ни видеть ее. Во всяком случае, он был не способен что-либо ответить.
— Когда Мартин исчез и я поняла, что, возможно, больше его не увижу, — говорила Эмили, — я решила заполнить свой мозг наукой, фактами, идеями, грамматическими премудростями — всем тем, что становилось сущностью, воплотившись в буквы и строчки. С помощью этих фикций я хотела избавиться от него, вытеснить его образ из своего сознания. Его человеческие качества должны были улетучиться из моей памяти: его взгляды, его строгие суждения, его голос, весь его облик. Но, сидя в аудитории Педагогического колледжа, я все время мысленно оценивала свои скромные достижения по его беспощадным меркам. Он жил во мне и живет до сих пор. И я ничего не могу с этим поделать. Мне кажется, что это и есть любовь, — добавила она, взглянув еще раз в лицо Мартина. Руки ее, как всегда, были сложены на коленях. — Но это ужасная и непоправимая судьба. Так зачем забивать себе голову несбыточными и ненужными надеждами, не правда ли, мистер Макилвейн? — Она улыбалась, но в ее темных глазах стояли невыплаканные слезы. Я вынужден был согласиться с простой честностью девушки. Все это действительно было никому не нужно.