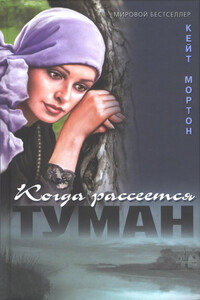Позади стола Симмонса виднелась дверь в чулан. Перепробовав несколько ключей, Донн открыл дверь. За ней действительно оказался чулан, где стояли дубовые шкафы, каждый из которых был заперт на висячий замок. У противоположной стены находилась вешалка с кое-какой одеждой на ней. Донн решил отодвинуть в сторону одежду, любопытствуя, не спрятано ли за ней что-нибудь интересное… И в этот момент я увидел знакомую мне армейскую шинель, которая преспокойно висела на крючке той вешалки.
— Мартин Пембертон носил точно такую шинель, — произнес я, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие.
Если бы мне сейчас предложили поучаствовать в таком расследовании, я без колебаний отклонил бы предложение. Вооружившись полицейским фонарем, Донн повел нас по лестнице вниз, в подвал, где мы еще не побывали. Стены подвала были сложены из грубого, необработанного камня, а само помещение разделено на секции деревянными перегородками. Каждая такая секция имела дверь и запиралась на ключ. Все помещение весьма напоминало овечий загон. Ключи, которые Донн прихватил в кабинете Симмонса, как раз подошли к этим замкам. Мы осмотрели два или три отсека — воздух в них был спертым и смрадным, наполненным угольной пылью. Мы вошли в третий отсек. В первый момент мне показалось, что на полу валяется полупустой мешок с углем… Этот отсек был… камерой-одиночкой. Полное отсутствие света, дышать нечем. На полу зашевелилась какая-то фигура. Донн направил на нес луч своего фонаря… И мы увидели… заросшее неопрятной клочковатой бородой лицо, моргающие, ничего не видящие глаза, которые истощенный до последней крайности человек пытался прикрыть от света костлявой, как у скелета, рукой. Господи, я бы никогда в жизни не узнал его… Бедняга, он превратился в скелет, покрытый невообразимыми лохмотьями.
В жизни я видал всякие виды, но эта сцена до сих пор иногда снится мне по ночам, и я просыпаюсь в холодном поту. Часто мне снится сон… Как будто неясная сила отдирает с лица земли Манхэттен — загаженный, закованный в каменные и асфальтовые мостовые Манхэттен, со всеми его канализационными и водопроводными трубами, колодцами, туннелями и проводами, как струп, который после заживления раны спадает с молодой свежей кожи. Тогда на земле взойдут семена, расцветут цветы, начнут снова плодоносить кусты и деревья. Холмы покроются зеленью, разрастется дикий виноград, появятся черника и смородина. Засияют первозданной белизной березовые рощи, над ручьями скорбно склонятся плакучие ивы. Зимой землю заботливым покровом окутает девственно чистый снег, который пролежит до самой весны и, растаяв, напоит почву чистейшей водой. Пройдет год-два, и задавленная цивилизацией, но не исчезнувшая вовсе протестующая древняя культура возьмет свое. Это будет славный реванш. Исчезнет проклятие клоак и дымных заводов, на цветущей земле снова будут жить стройные дети природы — индейцы, без денег и пышной архитектуры. Они будут жить просто и близко к природе — охотиться, ставить силки на мелкого зверя, ловить рыбу, сеять свои немудреные растения и молиться своим многочисленным богам и духам. Их боги всегда сопровождают их в короткой нелегкой жизни. Как я любил этих простодушных диких людей, примитивных политеистов, как завидовал им. Этим поклонникам солнечного света и зеленых листьев… свободным мужчинам и женщинам на их свободной земле… их способности рассказывать друг другу самые фантастические истории и искренне верить им… их потрясающе красивым сказкам о мире, в котором они жили и который служил им крепкой опорой…
Мартин знал ответы на все наши вопросы, но был не в состоянии их дать. Он не мог говорить и не проявлял никаких признаков разумного поведения. Он был нем и абсолютно безразличен к происходящему. Сара Пембертон отвезла его в Пресвитерианский госпиталь на Семьдесят первой улице и поручила заботам доктора Мотта — того самого врача, который в свое время поставил Огастасу диагноз смертельного неизлечимого заболевания. Мы каждый день ездили в госпиталь справиться о состоянии больного. Мартин, по мнению врачей, страдал общим истощением и сопутствующими нарушениями жизнедеятельности. Организм его был до крайней степени обезвожен. Женщины, которые вначале обрадовались известию, что Мартин жив, теперь были в ужасе от того состояния, в котором он пребывал, — молодой Пембертон лежал в постели, мало чем отличаясь от трупа. Он лежал на спине, уставившись в потолок невидящим взором. Лицо его покрывала смертельная бледность, на щеках виднелись пятна неестественно красного румянца… черты лица заострились, отросшие волосы и борода были спутанными и всклокоченными. Было видно, что под одеялом лежит маленькое высохшее тело. Но самое страшное — это отсутствие в глазах даже проблеска мысли, отсутствие того, что составляло суть личности Мартина Пембертона, того, что выделяло его среди остальных людей и ставило на голову выше их. Это был не мой Мартин.