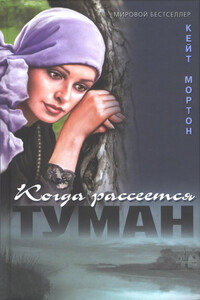— Но как можно повторить его эксперименты, если никто не знает, проводились ли они на самом деле? Мартин Пембертон говорил мне, что Сарториус не вел никаких протоколов своих исследований, — сказал я доктору Гамильтону.
— Это не так. Он вел протоколы и делал письменные заключения о результатах опытов. Мы нашли записи — в шкафах его медицинского кабинета были стопки исписанных тетрадей.
— Какова судьба этих тетрадей? Что с ними сталось? Где они сейчас?
— Этого я вам не скажу.
— Вы читали записи Сарториуса?
— Каждое слово. Он вел свои записи по-латыни. Это было захватывающее чтение. Назначение некоторых его приборов стало нам ясно только после прочтения их описаний в его тетрадях. Я могу с полным основанием утверждать: доктор Сарториус был человеком, опередившим свое время.
— Так, значит, вы не думаете, что он в действительности был сумасшедшим?
— Нет. То есть, пожалуй, да. Поймите, моему профессионализму был брошен вызов. Во всем этом содержалось что-то… критическое для всех нас, я имею в виду врачей. Сарториус вышел из нашей среды. Его поведение в рассматриваемом нами деле являлось преступным, и это еще мягко сказано. Но… оно зиждилось на блестящих достижениях, медицинских достижениях этого человека. Сарториус был блестящий практик. Но он вышел за предначертанные ему границы! В этом-то все дело. Он вышел за пределы того мира, к которому приложимы понятия сумасшествия и здравого смысла, морали и злодейства. Все, что он совершил на этом выдающемся поприще, явилось естественным продолжением его предыдущей практики, которая не выходила за рамки здравого смысла и общепринятой морали.
Боже мой, да что там говорить!… Уж что касается оценки сумасшествия и душевного здоровья в нашей психиатрии… Я могу кое-что рассказать вам о состоянии дел в нашей науке. Дайте мне старика, который составляет завещание, — я задам ему пару вопросов и скажу вам, в своем ли он уме и способен ли адекватно выразить свою волю. Эта задача мне вполне по силам. Я могу настоять на том, чтобы в лечебницах персонал прекратил избивать ни в чем не повинных душевнобольных людей. Я могу обеспечить их сносной едой и свежим воздухом, проследить, чтобы им вовремя меняли постельное белье. Я знаю, что этих бедолаг надо загрузить посильным для них трудом — они могут вязать, прясть или рисовать картинки, внушенные им их больной фантазией. Это все. Вот уровень наших сегодняшних познаний в психиатрии. Не менее ужасно то, что я прекрасно живу, — меня очень хорошо кормит такая, с позволения сказать, профессия. Поведение Сарториуса было — если так можно выразиться — избыточным. Я внятно излагаю свои мысли? Какое бы передовое мышление ни стояло за его поведением — оно было избыточным, безумно избыточным, безумным в буквальном смысле этого слова. Была и более трудная проблема — должна ли широкая публика знать о работах Сарториуса? Смогла бы она переварить этот шок? Наш город и так за короткое время пережил несколько потрясений. Возник вопрос, сможет ли он пережить еще одно без существенного ущерба для себя. Окружной прокурор в достаточной степени посвятил нас в то, что будет после того, как мы признаем Сарториуса вменяемым. Как только дело передадут в суд, правовая машина заработает на полных оборотах… Предварительные слушания придется проводить в здании суда, куда допустят прессу… Ну, короче, вы представляете себе последствия.
— Но Сарториус находился под покровительством Твида.
— К тому времени с Твидом было покончено.
— Итак, вы знали, что Сарториус вполне в своем уме?
— Да нет же! Я как раз стараюсь объяснить вам, что его нельзя было назвать вменяемым и душевно здоровым. Мы не понимали многого в этом случае — я имею в виду случай заболевания доктора Сарториуса. Вы можете назвать вещи, которые он творил, нормальными? Нормальность — это такой же термин, как, скажем, добродетель. Вы возьметесь дать клиническое определение добродетели? Как это вино в моем стакане — прекрасное вино, добродетельное, добродетельнейшее, очень винное вино. Вы меня понимаете?
— Вы побывали в водонапорной башне?
— Да.
— Каковы ваши впечатления?