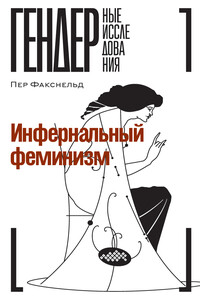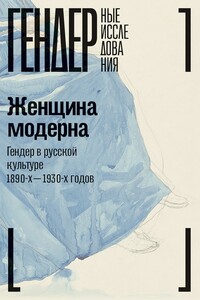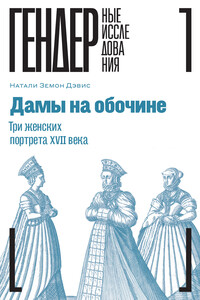Нужно ли мужчинам-зрителям наблюдать женские страдания, болезни, переживания, отчаянье? Далеко не всем; однако они становятся концептуальны именно в этом жанре. Через их постижение женщины-зрительницы осмысляют суть своих подлинных желаний, которые находят творческое воплощение на экране.
Через детали женских страданий, без которых немыслим никакой путь к успеху, фильмы показывают различные модели патриархатного мира, но через результаты преодолений жертвенности благодаря блестящей фантазии, играм разума, творческой воле, сексуальной смелости байопик показывает, как женщины добиваются для себя особого положения в истории мировой культуры и науки.
Персона: Кэтрин Бигелоу. Долгожданный «Оскар»
В 2010-м американские феминистки открыто критиковали Кэтрин Бигелоу — первую в истории женщину, получившую «Оскар» в категории «Лучший режиссер». Они называли ее предательницей женщин ради своего рода маскарада «плохого парня, гипермачо», поскольку ее кино практически совсем не уделяло внимание тому, что называется «женским». Одним из аргументов феминисток являлось то, что «Оскар» Бигелоу достался за фильм о войне в Ираке «Повелитель бури» (The Hurt Locker, 2008), где нет вообще ни одной женской роли. Бигелоу считают своей в клубе «голливудских мальчиков», куда смогли прорваться только 9 % женщин. Сама она себя феминисткой не считает и очень осторожно говорит об этом в своих интервью.
Однако Кэтрин Бигелоу всегда оживляется, когда интервьюеры затрагивают вопросы жанрового кино, насилия или техники съемки. Здесь она в своей стихии. Мужчины-режиссеры, вроде Оливера Стоуна, продюсировавшего ее кино вместе с Джеймсом Кэмероном, говорят, что она обладает видением. Безусловно. Умение говорить визуальным языком пришло к ней вместе с талантом современного художника, который обнаружился еще в молодости во время учебы в Художественном институте в Сан-Франциско, затем, с 1972 по 1983 год, в Нью-Йорке, где Кэтрин выставляла свои работы в музее Уитни. В этот период она полюбила использовать киносъемку в своих работах и оказалась в Колумбийском университете, где преподавал Милош Форман. Своими учителями она считает создателей экшн-кино, фильмы которых пересматривала бесконечно: Мартина Скорсезе, Джорджа Миллера, Сэма Пекинпа, Уолтера Хилла, Джеймса Кэмерона. С последним она даже состояла в двухлетнем браке, равно как и сотрудничала, снявшись у него в клипе Reach (1988)81. Однако интересы Бигелоу всегда были шире, чем жанровое кино. Недаром она не бросает занятия живописью. Ее преподавателем в музее Уитни была Сюзан Сонтаг 82, а в университете — Питер Уоллен и Эдвард Саид 83. Последний с его знаменитой книгой «Ориентализм» особенно вспомнится в период обращения Бигелоу к теме войны в Ираке. «Я не думаю, что есть женский способ воспроизведения насилия на экране, — говорит Бигелоу. — Это только лишь подход режиссера. Я не думаю, что в этом есть гендерная специфика. Насилие — это насилие. Выживание — выживание. Я не думаю, что в этом есть женский взгляд и женский голос»84.
С самого первого фильма «Без любви» (The Loveless, 1981), созданного в соавторстве с Монти Монтгомери, Бигелоу продемонстрировала, что ее особенно интересуют экранные мужские персонажи. Этот фильм открыл для кинематографа молодого Уиллема Дефо, сыгравшего роль байкера на дороге и напомнившего о «Диких ангелах» Роджера Кормана и о «Скорпионе восставшем» (Scorpio Rising) Кеннета Энгера. Герой Дефо казался одиноким, не желал находиться в стае себе подобных и сумел выразить симпатию только странной и красивой молодой девице на дороге, изнемогающей от насильственных действий своего отца. Тема насилия была прочерчена в этом фильме пунктирно: в отличие от «Диких ангелов» 60-х, байкеры 80-х казались довольно спокойными чуваками, способными максимум на игры в ножички и мелкие грабежи на дороге. Однако выхлоп насилия все равно приходился на кульминацию фильма. Уставшая от контроля отца, девица расстреливала обидчика в упор и застреливалась сама на глазах у изумленного героя Дефо. Насилие приходило не с той стороны, которая предполагалась изначально. Свободное перемещение по дороге, казалось, вселяло оптимизм и чувство свободы, когда никого не хотелось убивать. Семейный патриархатный контроль, в свою очередь, приносил с собой ответные жестокие меры, вспышку иррационального насилия, подлинного зла, а с этим и женский взгляд на женщину как онтологическую жертву, которой все время надо отстаивать свою автономию, вырываться из семьи. Интересно, что здесь она не искала защитника. Байкеры не годились в защитники, ибо сами страдали инфантилизмом. Она нападала сама и не выдерживала накала возникшей трансгрессии.