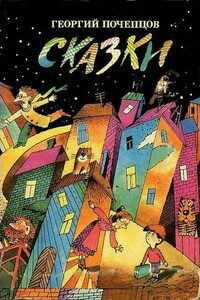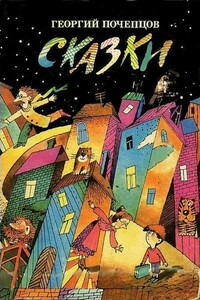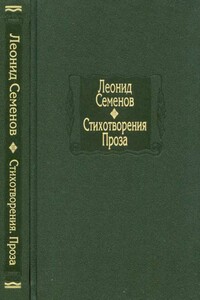[…] Материалы ДСП печатались ограниченным тиражом, практически без какой-либо редакторско-издательской подготовки, да и «пристальной» цензуры. И о них никто, кроме специалистов, ничего не знал, такие публикации были маргинальными, чисто гибридными творениями советского научного двоемыслия. Правда, за ними признавалось первенство в отношении к Истине (это было что-то вроде философского самиздата, на который мало обращало внимание партийное начальство). Главное, что идейно-идеологический ритуал соблюдался» [6].
В СССР за счет доминирования повсюду правильных мыслей, которые могли существовать только в цитатной форме без обсуждения и, не дай бог, критики, любой альтернативный ручеек казался неискушенному больше мощной реки пропаганды. И сразу в ней обнаруживались странности и несоответствия, которые и вели к ее отрицанию. В результате модным и современным было не следование идеологии и пропаганде, а хотя бы малое ее отрицание. Именно на этом вырастали имена режиссеров и писателей, которые не хотели снимать или писать «сказку», а хотели «правду». Ее же хотел и зритель, и читатель. Двоемыслие стало результатом жесткого насаждения единомыслия, которое существовало без права на сомнение или даже безобидный вопрос.
Параллельно официальному существовали неофициальные информационные и виртуальные потоки. Это был самиздат и разнообразные собрания знакомых друг другу людей, от которых можно было не ждать опасности.
Там можно было услышать и увидеть то, чего не хотела слышать и видеть власть. Например: «Физик Александр Кривомазов в 1970-80-е годы устраивал еженедельные квартирники. Домашние концерты и поэтические вечера были очень популярны в СССР из-за запрета на любую неподцензурную музыку и литературу. За восемь лет в однушке Кривомазова на окраине Москвы прошли 350 встреч: гости собирались, чтобы послушать, как Венедикт Ерофеев читает „Москву — Петушки”, а Аркадий Стругацкий рассказывает о съемках „Сталкера”. Кривомазов фотографировал и записывал на магнитофон всех выступавших. У него скопился огромный архив, который он прятал от КГБ в восьми чемоданах» [7]. Александр Кривомазов вспоминает: «Мы жили, когда „КГБ” у каждого звучало третьим словом вместо мата. Люди не доверяли друг другу и предпочитали молчать. Вечера были сделаны для людей открытых, свободных, в какой-то степени больше доверяющих другим. И я боялся, что КГБ совершит провокацию. Это был ежедневный груз».
Все это можно признать ростками того, что, в конце концов, разрушило СССР, поскольку население уже ощущало неправильности советского мироустройства. Население, конечно, не сыграло той роли в смене режима, которую ему приписывают. Ему просто предложили как бы перейти на другую сторону улицы под руководством тех, кто до этого кричал, что этого делать нельзя. Это совершенно внезапно для массового сознания сделали ЦК и КГБ, возглавив движение как бы в противоположную сторону.
С. Кургинян очертил в этом процессе и роль М. Бахтина, говоря, что Суслов не любил Бахтина за то, что тот бьет аллюзиями: «В приводимой Аверинцевым цитате из Бахтина аллюзия и впрямь носит достаточно очевидный характер. Серьезность — это „совок". Это партийное советское начетничество, которому не верит народ» [8].
Еще Кургинян увидел опасность в другом инструментарии — раблезианстве, осмеянии, карнавализации [9]. Он говорит о разрушении через осмеяние, называя соответственно М. Бахтина главным идеологом такого подхода, когда смех используется для разрушения власти.
Однако в осмеянии нет особой новизны. Этот инструментарий и так использовали в СССР. Уже, например, такая далекая сегодня «Карнавальная ночь» была направлена против бюрократов, или высмеивания их в образе Бывалова в «Волге-Волге», тогда появился даже термин «бываловщина».
Режиссер «Волги-Волги» Г. Александров вспоминал: «Еще когда „Волга-Волга” находилась в зародышевом сценарном состоянии, многие руководители нашего киноведомства относили на свой счет, самолюбиво считая, что это „с них списано”. Когда же по коридорам и павильонам „Мосфильма” стал расхаживать в гриме гражданина Бывалова артист Игорь Ильинский, то произошел курьез совершенно неожиданный. Оказалось, что Игорь Ильинский в гриме Бывалова похож на… Шумяцкого. Борис Захарович, так веривший в меня, своим авторитетом руководителя кинокомитета давший мне возможность снять „Веселых ребят”, когда против „Джаз-комедии” выступали даже технические работники студии, всерьез на меня обиделся. Его красноречивые обиженные взгляды в мою сторону можно было весьма точно расшифровать, вспомнив русскую пословицу: „Ради красного словца не пожалеет и родного отца”. Итак, я — неблагодарный насмешник. Но эта обида была, так сказать, затаенная. Находились ответственные читатели сценария, которые просто-напросто запрещали снимать те или иные кадры»