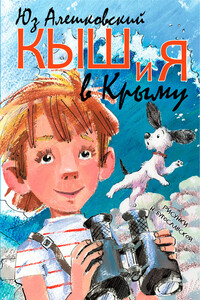И кружку, Коля, мне не дает. Наслаждаясь, продолжает унижать. Жду. Третий звонок в фойе. Но пена бутылочного пива плотная, не такая, как у разливного. Не садится пена, и все дела. У меня в горле пересохло, слюни текут, конной толкает: пошли. Я говорю:
— Падла позорная, дай я из горлышка попью!
— Нет, подсудимый, не положено. Здеся у нас процесс будущего, а не подворотня у «Хворума». Идитя. Опосля приговора придетя.
— А если пиво выдохнется, — вежливо спрашиваю, — и станет теплым, как моча верблюда в пустыне?
— Тогда я вам в будущем новую бутылку открою.
— Опять, значит, ждать будущего?
— Да, ждать. Я не виновата, что пиво с пеной выпускають. В будущем, может, и без пены что-нибудь придумають.
— Хорошо. Дайте мне бутылку с собой и получите за эту.
— С собой не положено, — говорит конвой.
— Тогда дайте хоть бутербродик с колбаской, — тихо прошу я и чуть не плачу.
— Бутерброды мы без пива не даем. С алкоголизмом боремся,говорит гунявая Нюрка.
Вот как закрутили душу в муку!
Администратор Аркадий Семенович, маленький такой, юркий, уже семенит ко мне и тоненько кричит:
— Фаи Фаныч, дорогой, ну, где же вы? Зал ждет! Люди топочут! — Пускай, — говорю, — журнал без меня начинают.
— Нет! Нет! Без вас не можеы. Все-таки, это ваш процесс, а не наш! На скамью, дорогой, на скамью!
Ты представляешь, Коля, я в некотором роде аристократ, я не могу перед парчушками нервничать и злиться, не могу метать икру и качать права, но и ты войди в мое положение: я от последнего слова отказался, для того, чтобы побыстрей выпить перед этапом, перед Бог знает чем, может, последний раз в жизни холодного пивка выпить и по жевать бутерброд с полтавской колбаской! А эта сучка тухлая пытает меня! Эта мразь надо мной изгиляется перед вынесением приговора! Так я и ушел, не пимши, не емши, его выслушивать. Нюрка мне вслед прошипела:
— Баб надо было харить, а не какаду! Уродина!
И я, Коля, сеичас предлагаю выпить зато, чтобы всем животным в зоопарке вовремя и вволю давали есть и пить!
Захожу в зал. Полутьма. Все уже на местах. Щелк: подключились магниты к подошвам. Судейский стол и кресло с гербом во время перерыва отодвинули в сторону и за ним, Коля, открылась прозрачная стена. Впервые, опять-таки, в истории мы могли наблюдать, как судьи выносят приговор в своей совещательной комнате. Председательша, мышка-бабенка, заплетала перед зеркалом тоненькую косицу, держа в зубах шпильки, и слушала, что ей втолковывала старая смрадная заседательница. Я тоже с интересом слушал. Оказывается, такие люди, как я, убили во время коллективизации ее мужа только за то, что у него было партийное чутье на кулацкие тайники с зерном и за то, что после конфискации зерна в какой-то деревне Каменке умерли от голода все кулацкие дети, Партию необходимо уговорить заменить мне тюремное заключение расстрелом. Тем более я еще в юности плевал (смотри лист дела номер 10) на энтузиазм двадцатых годов, растлевал журавлей, цинично используя особенности их конституции, и не остановился даже перед кошкой и мерином.
Не выпуская шпилек изо рта, мышка переспросила, о какой такой журавлиной конституции идет речь, если всем известно, что в природе существует только одна нефиктивная конституция — сталинская? Старую падаль так и перекосило, но и ей было, смрадине, ясно, что о конституции лучше не спорить. Тогда здоровенный детина в кирзе — заседатель — первый раз за весь процесс вякнул:
— За журавля не надо бы расстреливать. Пускай в болоте журавль живет, а не расхаживает по деревне. Сам виноват, что влупили ему! Старуха презрительно отошла от кирзы и повела носом, как-будто он испортил воздух. — Я — за расстрел, — продолжала она. — Поймите, этого ждут все борцы за мир, все сочувствующие нам энтузиасты. Если мы проявим мягкотелость, то пример Йорка может стать заразительныи. Взгляните на молодежь! Она уже страстно жаждет разложения, она ловит забрасываемые к нам с запада миазмы распада! Сегодня — кенгуру, завтра — лошадь Пржевальского, потом — н мы не должны закрывать на это глаза — гиббоны, гориллы, одним словом, приматы. Что же даль ше? Мы, люди?