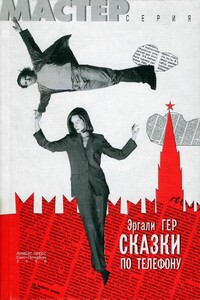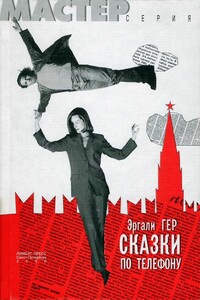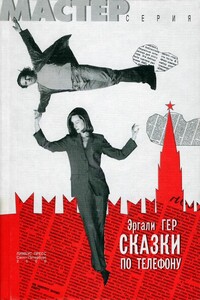— Эта улица, Антокольского, была совсем другой, и люди здесь жили совсем другие и по-другому, а теперь я никого и ничего здесь не знаю, кроме кабаков, — жаловался он, чувствуя, что слова летят и падают, как пташки на морозе, не долетая до слуха спутниц. — Все эти дворики были булыжные, черные, с водоколонками и мыльными лужами, а в подвалах, где теперь кабаки, хранили уголь. Такой, знаете, еврейско-польско-русский квартал. Дома стояли вперемежку с руинами, а на руины наползали пристройки, сараи, и всюду бегали дети, и жизнь была — одна на всех, как одеяло в бедной семье… Душевное было время. Строгое, но душевное.
Он часами мог говорить о том городе — городе других людей и другой культуры, сгинувшем на его глазах бесследно, бесшумно, бесправно и планомерно, как и положено при социализме; городе, отданном на потребу власти, — а власть медленно, как корова жвачку, переварила город и горожан на свой манер.
— Зато теперь все чистенько, буржуазненько, очень так по-литовски, — заметила Дуся, отрываясь от болтовни с Ксюшкой. — И дети, которые здесь подрастают, будут вспоминать эти улицы, а не твои.
— Это да, — согласился Акимов, сникая. — Это конечно.
— А что, все евреи уехали? — спросила Таня.
— Ну, так не бывает, чтобы все… У нас в классе было человек десять евреев — уехало семь-восемь… Но вначале их выселили отсюда. Вот здесь, в районе Большой синагоги, они жили всегда, столетиями, и даже после войны, после Катастрофы это был по преимуществу еврейский квартал. А потом их пораскидали по новым районам, выдрали с корнем, перемешали, и уезжали они уже из новых районов.
— В Москве то же самое, — сказала Таня. — Коренных москвичей выселяют к черту на кулички, а центр заселяют всякой шушерой: номенклатурой, гэбэшниками, лимитой.
Он показал им детский сад, построенный на месте взорванной синагоги. Они посмотрели. Ксюшка спросила, можно ли тут немножко побыть и поиграть среди избушек на курьих ножках.
— Вот еще, — возмутился Акимов. — Вам с Дусей, значит, играть, а нам с Таней мерзнуть…
Девицы расхохотались.
В конце концов, это была его память, его проблемы. А девчонок, по возрасту их, в самый раз было именно поводить, дать кусочек Европы, чтоб они отдохнули в средневековых улочках от московских просторов, тамошних державных проспектов, площадей, пустырей, зияющих и сквозящих дыр в пространстве. В самый раз выходило именно бродить и болтать, следить, чтобы Ксюшка не лезла в раскисший снег и не висла на Дусе; стороной обходить многочисленные питейные точки, обросшие по случаю ярмарки запятыми хвостиками очередей; любоваться Дусей, музыкальной ритмикой ее походки и жестов — любоваться украдкой, с задумчивым и одобрительным видом кивая Тане, — смотреть, как танцует ее дубленка, взлетают руки, приплясывает ягдташ, нелепо свисающий с плечика почти до земли, а в такт ему приплясывают и сверкают волосы. Было в ее фигурке нечто невыносимое взгляду, раскованное, дисгармоничное, больно и сладко бьющее по глазам, не позволявшее смотреть на нее подолгу, а не смотреть — тоже не получалось. Акимову невольно вспомнилась Зиночка: пухленькая, голубоглазая упаковщица Зиночка с книжной базы, где он работал после девятого класса грузчиком. Та тоже ходила пританцовывая, словно в ней изнутри, неслышно для окружающих крутилась озорная мелодия типа чардаша, прорывавшаяся то неожиданно стремительным разлетом рук, то цокотом каблучков, то тутошней чечеточной мовой — птичьей, щелкающей русско-польско-белорусской скороговоркой. Она была старше его, может быть, на год, а еще у нее был жених, о котором она охотно судачила с подружками и к которому убегала, приплясывая, по окончании рабочего дня, а по утрам стабильно опаздывала на полчаса. Акимову там ловить было нечего, только облизываться — что, собственно говоря, он и делал: брел, безвольный зомби, под пыльные своды упаковочного цеха на ее голос, присаживался в сторонке и завороженно следил за змейками ее рук, змейками губ, змейками бликов, бегающих по халату. Он утопал в ее личике, как утопало там все, включая собственные ее голубые глазки и ямочки на сияющих щечках. И не мог выплыть. Такое с ним было впервые — одуряющий танец медовой плоти прошиб его стыд, гордость, проклятую подростковую застенчивость — он не мог выплыть! — и этот танец, эта напасть преследовали его все лето, ночью и днем, пока однажды Зиночка громко, внятно, так, чтобы он слышал, не сказала своей товарке Данусе: