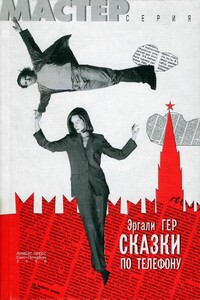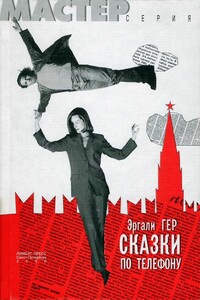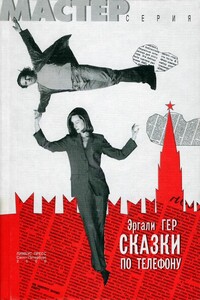— Да, мрачновато, — согласилась Таня. — И что же ты ей сказал?
— А что тут можно сказать? Хорошо еще, никто не вмешался — мол, что ты, Илона, пристала к Акимову, какой он русский, он же свой в доску, а жена у него и вовсе еврейка — это самый такой паршивый вариант, когда тебе по блату организуют прощение и ты сидишь, как придурок, по уши в чужой снисходительности… «Да, — сказал я, — мы, русские, оккупанты, сорок там сколько лет назад заграбастали вашу Литву и мне до сих пор стыдно за это. Я до сих пор в общении с литовцами ощущаю из-за этого комплекс неполноценности, и очень рад, что она, Илона, об этом заговорила, потому что комплексы нельзя замалчивать, их надо выговаривать, это вам любой психоаналитик… Тем более когда речь идет о таких тяжелых, таких запущенных случаях». Ведь в той компании, где меня выставили оккупантом, я был не только единственным непечатным писателем, но и единственным, кто мог сказать, что именно в этом городе, на Липовке, лежат его деды и прадеды, — только я и моя жена, хотя еврейское кладбище, где покоились ее предки, в конце пятидесятых сровняли с землей, а надгробными плитами замостили лестницу к Дворцу профсоюзов. И если мы, то есть я с женой, люди, на которых нет личной вины, все же испытываем комплекс вины, то, наверное, и Илона вправе ненавидеть людей, которые лично ей ничего плохого не сделали: у меня свой комплекс, у нее свой. Можно хвастать своими комплексами, можно спорить, какой покруче, чем, кстати, частенько и занимаются больные люди — но лучше лечиться.
— Красивый ответ, — согласилась Таня, пока он допивал пиво.
— Я бы сказал, несколько даже слишком. Присутствие красивых женщин прибавляет, понимаете ли, патетики.
— Надо думать, она прониклась? — спросила Дуся не без ехидства.
— Задним числом легко угадывать, Дусенька, — попрекнул Акимов. — В общем, да. Не прошло и полгода, как она стала моей любовницей.
— А как же жена?
— А жена ничего, — Акимов пожал плечами, — я жене о таких вещах не докладывал.
— Да уж… — Дуся задумалась. — Наверное, она все равно догадывалась.
— Еще бы, — жестко подтвердил Акимов. — Она у меня догадывалась обо всем.
Пусть знает, подумал он. Ты этого заслужил, дружок.
— За мной много такого, о чем стыдновато вспоминать, особенно по женской части, — добавил он. — Я только год назад, после отъезда жены понял, какое это было безумие — растрачивать любовь красивой, верной, исключительно порядочной женщины, какой была моя жена. А я ее всю растратил.
Дуся замешкалась с ответом, Таня кивнула и закурила. Алкогольный нагруз, подумал Акимов. Он сидел и смотрел в пустой бокал. Самое время предаваться печалям.
— А как же Ксюня? — спросила вдруг Дуся.
Ксюня, подумал он. Нет, не бывает таких Дусь. У них там в Москве совсем повылазило, должно быть, коли они не замечают таких реликтовых Дусь. Да и ты со своими слюнями…
— Ты хочешь спросить, как она решилась уехать без Ксюшки? — Он взглянул на Дусю, облитую розовым пламенем свечи, и постарался ответить по-честному, без надрыва: — Может, это звучит не очень выгодно для меня, но дело в том, Дусенька, что она меня — пожалела, да. Именно так. Притом это не окончательный вариант. Мы решили, что она должна сама адаптироваться в Израиле, а там — будем посмотреть… Я ведь никто, Дусенька, я нищий, мне приходится переводить дурацкие романы, чтобы прокормить Ксюшку, а одевать — одевать ее я уже не могу. Одевается она в то, что присылает ей мама.
— Это нормально, — успокоила его Таня. — Все так живут.
Парочка за соседним столом рассчиталась и встала.
— Вкусно кончить, — пожелала, протискиваясь между столиками, жемайтийка, протиснулась и пошла за кавалером на выход.
— Это как? — удивилась Таня.
— Это нормально, — успокоил Акимов. — Нормальная калька с литовского, провинциальный вариант «приятного аппетита».
Таня хихикнула. Официантка принесла и поставила перед Акимовым второй бокал.
Эх, Дуся-Дуся, подумал он, боюсь, я надеруся.
И в два глотка осушил полбокала.
— Между прочим, мы обещали Ксюшке присматривать за тобой, — напомнила Таня.
— За мной не надо присматривать, — заверил Акимов, надеясь, что это так. — А кстати, схожу-ка я позвоню.