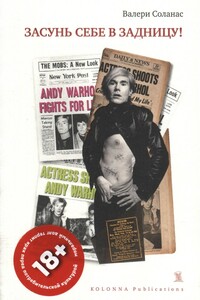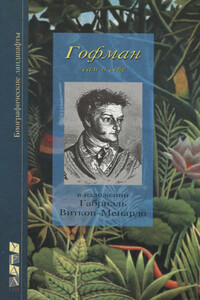Каждый день - падающее дерево - страница 37
Надо было слышать, как ее Светлость, с протершимися локтями, говорила о богинях-матерях, туша сигарету в ботинке из раскрашенного фарфора, вперяя текучий взгляд в бесконечно далекую решетку вентилятора, облепленную каштановой пылью, пока слуга — черные ободки у него на ногтях подчеркивали безвкусие шелковой абрикосовой ливреи — топил нас в море чая.
Пробыв три дня в Риме, Ипполита улетает в Германию по абрикосовому небу, изборожденному черными тучами, аспидными полосами — унылым оперением, шевелюрами, которые обрушиваются на закатное солнце. Полет, как всегда, погружает ее в транс, проясняет и упорядочивает мысли, подобно розеткам мандалы. Антей[145] восстанавливал силы, касаясь земли, Ипполита же вновь обретает свои, покидая ее.
Август. Вся земная влага — в зелени, океаны хлорофилла, разливы, булькающие со свистом выжимаемой губки, слизь травы, пот и слюна на лапах каштанов. И под кустами, меж гроздьями готовых лопнуть яиц — красновато-коричневое, золотистое потрескивание птичьей падали или шипение какой-нибудь разжижающейся белки, моя грядущая пляска. (Этот мощный летний экстаз может одинаково развертываться в копытени[146] на геркуланумском дерне, на бютт-шомонских[147] склонах или в каком-нибудь парке минеральных вод.) Именно в августе, находясь на борту судна-банановоза, шедшего из Эквадора, я когда-то увидела, как цветет море. На открытом просторе, вдали от берегов, океан покачивал большие венчики без корней, белые лепестки, соединенные попарно: раковины, бабочки, незавершенные кувшинки или увечные магнолии — такой был у них вид. Никто не знал их названия. Ночью подводная процессия медуз, которые мириадами отправлялись праздновать свои свадьбы, проплывала у поверхности воды, и каждая была плошкой. Как-то раз я видела, как одна гигантская манта выпрыгнула из воды и крутнулась в воздухе, всплеснув своим черным саваном.
Август. Даже конец августа, в один из этих дней я была зачата, в самом странном месяце. Месяце избытка, зените пантагрюэлевского веселья, безумной радости в аромате канталупы[148] и запахе молодой подмышки, издаваемом базиликом, и в то же время — последней грани, предвестнике измены. Природа ликует, и ее гимн уже вытягивается в смертный вой. Смерть эта временная, так же, как и ликование было быстротечным. Это неважно; главное, что беспокойство достигает точки взрыва, освобождая в высшем взлете. Я задаю себе простой вопрос: самый жуткий прокаженный с базара Сиредеори, тот, при виде которого тошнило и хотелось помочиться, не достиг ли он сам этой высшей точки, коль скоро уже не парил? Но ведь существует так много людей, которые никогда не будут парить, всех тех, что в августе потеют, этих безумцев, схваченных в тиски мелочных забот, которых они не выбирали. Я догадываюсь, что, несмотря на их поросячий эпидермис, в этой свиной коже с чудовищным липидным брожением, при котором все жирные токсины выступают на поверхность, образуя ужасный отвар, микроскопический пейзаж состоит из обвалов, дикого клокотания, натянутых блестящих гор и болотной тины. Каналы срыгивают, лава плоти дрожит в своих кратерах, или ее пузыри лопаются, и все переливается радужными цветами.