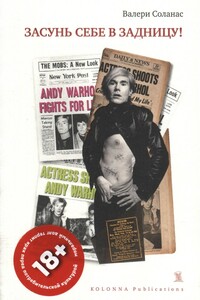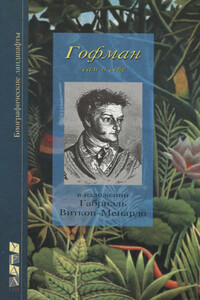Каждый день - падающее дерево - страница 21
А пальмы? Ни разу не видела, чтобы их разбивала молния. Погибают ли они от пилы?.. Каждый день — падающее дерево, но каждая секунда — поваленный тайный лес.
Естественно, Ницца. Милая и коварная граница, тупиковый сад какой-нибудь Цирцеи с убогим воображением. Чары и безумства ка-кой-нибудь Прекрасной Отеро, которая умерла здесь, побежденная, обнищавшая.
Невинная и хрупкая, величественная и кровожадная, the Suicidal Siren всего лишь подчиняется древним естественным законам, изначальным patterns[85] пожирания, которым подчиняются гарпия больших экваториальных лесов и тигрица, совершающая обход. Она — простодушная самка, даже если ее жертва артачится и брыкается.
Мосса[86] — Гюстав Адольф Мосса — артачится и брыкается. Произведения этого человека, дожившего до глубокой старости, выставлены в одном из залов музея Шере[87] — дворца, пахнущего воском и стеклом, где однако угадываются ночные пиршества пауков, — и охватывают лишь тринадцать лет. Меня ослепляют и, возможно, одуряют чары; эмоция, которую я испытываю при встрече с собственными фантазмами, правдиво отраженными в зеркалах Моссы, видимо, помрачает мой рассудок. Вот все наши символы, — его и мои, — представленные, словно в каком-то анатомическом кабинете. Не знаю, насколько Моссе удалось расшифровать созданную им же самим тайнопись, и в этом — суть загадки, тайны, спрятанной под свернутыми покровами. Не думаю, что Гюстав Адольф Мосса был великим художником и даже просто хорошим художником, несмотря на его гризайли[88] с белыми бликами, перламутровые и ртутные переливы несчастной покойницы, лежащей на снегу, и тонкости, достойные кисти Климта. Мосса — поэт, умеющий рисовать, писатель, сбившийся с пути и именно благодаря этому незаурядный. Мазохист, модулирующий пылкость своего крика в сложных вокализах[89], поочередно искусный и неуверенный в себе, одержимый своим видением до забвения всего остального, Мосса может позволить себе патетику, не впадая в китч. Даже если он немножко отведывает этого китча, ведь профили и правда мятежны, а руки и правда возмутительно тонки. Тем не менее, Мосса никогда не варганил женственной живописи, дамских поделок, даже если его шляпы и драгоценности тотчас вызывают в памяти имя художницы, которая, наверняка, мечтала бы их позаимствовать. Его виртуозность самостоятельна, а некоторые обращения к Гюставу Моро[90] заставляют лишь пожимать плечами. Мосса не сводим ни к кому, и поэтому его никем нельзя заменить. Будучи далек от всякой самодовольной архаизации, он помещает древние архетипы в контекст собственной эпохи, в лабиринты Геркуланума