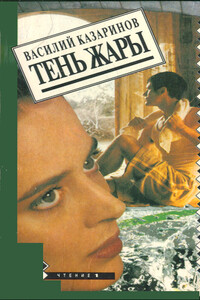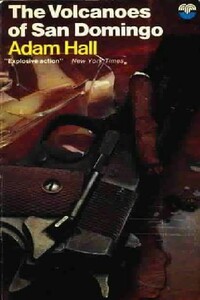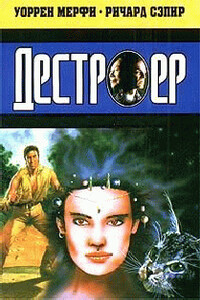Я бросил взгляд на часы — половина третьего, самый разгар жаркого дня, сонного и безветренного, что мне тоже на руку: значит, не придется искать наветренной стороны, чтобы остаться незамеченным на подлете к нему.
Машину я заметил сразу, случайно выглянув в окно на кухне, — она стояла на углу соседнего дома, рядом со входом в крохотный продуктовый магазинчик. Я завтракал первой чашкой кофе и сигаретой — всю ночь просидев за столом над сафьяновой папкой Модеста, лег, по обыкновению, лишь в седьмом часу утра и потому еще плохо соображал. Однако одного рассеянного взгляда во двор было достаточно, чтобы кровь быстрей понеслась по жилам, будоража и пробуждая тело. Я выпорхнул на лестничную площадку. Никого. Спустился на первый этаж, осторожно приоткрыл дверь парадного, выскользнул во двор. Прижимаясь спиной к теплой кирпичной стене, бочком добрался до угла дома. Автомобиль, в радиаторе которого увядал под слоем серой дорожной пыли красный трилистник, уставился на меня раскосыми фарами. В номерном знаке присутствовали те две цифры и буква, о которых упоминал старый сморчок, встреченный в палисаднике напротив входа в модное заведение.
Прячась за штабелем бетонных плит, я мог осмотреть свою территорию и почти сразу увидел его.
Вернее сказать, не столько увидел, сколько почуял: это был острый блик, на мгновение полыхнувший где-то высоко, над крышами. Теперь я знал, где его источник. Крыша моего дома. Чердачный выход.
Там высверкнуло что-то. Что именно — определить труда не составляло. Я знал — так бликует оптический прицел.
Он выбрал место, с одной стороны, идеальное.
Машину я ставлю на краю двора, у трансформаторной будки. Угол обстрела приличный, и он позволял без труда снять меня, когда я подойду к машине.
С другой стороны, позиция безнадежная: чердак мне дом родной, я там знаю всякий закоулок, знаю его запахи, его пыль, дерево стропил, и потому я мог легко проникнуть туда через крайний подъезд, оставшись незамеченным. Сурок ничего не почуял, дневная дрема притупила его чувства, а крылья мои бесшумно скользили в жарком воздухе. Кроме того, он настолько был поглощен наблюдением за двором, что никак не отреагировал на мое появление, продолжая недвижно сидеть у окна, опустив ладони на лежавшую у него на коленях винтовку с оптическим прицелом.
Укрывшись за кирпичной тумбой дымохода, я некоторое время наблюдал за ним, потом выпорхнул из укрытия, цыкнув на лету на сонного голубя: цыц, глупая птица, сиди тихо! — и он понял меня, не дернулся с места, а может быть, это был просто больной голубь, прилетевший на чердак умирать или, может быть, посмотреть на то, как будут умирать другие: он уже начал впадать в сонный анабиоз, но тем не менее вынул голову из-под крыла, тускло блеснув пуговками уже замутненных белесой поволокой глаз, и конечно же видел, как я тихо подлетел к сурку сзади, тюкнул его клювом прямо в темя — легонько, сдержав порыв резким ударом перебить ему хребет: еще не время.
Удар по голове не лишил его способности трепыхаться — качнувшись вперед, он выронил изо рта комок жевательной резинки, схватился за затылок, выпустив из рук винтовку. Ударом ноги в приклад я отбросил ее подальше. Его висок, густо орошенный капельками пота, оказался оголен. В него я и ударил. Он слетел с тарного ящика, на котором сидел, и рухнул на пол.
Я поднял с пола винтовку и озадаченно присвистнул: сурок, как оказалось, соображал в оружии. Это была финская С-ССР, модель не самая последняя, но надежная, удобная, прикладистая: калибр 7,62, ствол покрыт шумопоглотителем, отдача не превышает трех килограммов, устойчивое поражение цели на расстоянии до девятисот метров.
Что и требовалось доказать: на кладбище и на полянке, неподалеку от загородного дома, где выпивали однокашники, сработал не он. Да и вообще, в том, как он держал Оружие на коленях, в самой его позе, в том, что он много курил на линии огня — весь пол вокруг ящика был забросан свежими окурками, — не было профессиональной повадки.
Там сработал кто-то другой, и тот другой был, в отличие от сурка, профессионалом.