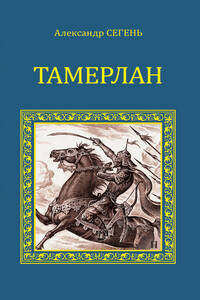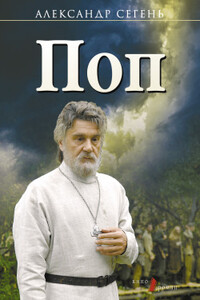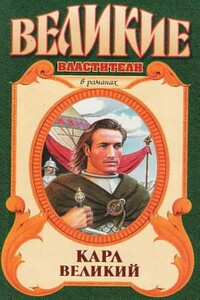– Как я мечтаю об этом, – вздохнул Фоле.
– Так в чем же дело?
– Я не могу оставить родных, дядю Моше. У меня обязательства перед ним.
– Мне кажется, ты ошибаешься. По-моему, Моше только рад будет избавиться от тебя.
– Вы так считаете?
– Уверен.
– Что ж, возможно, вы и правы. Я тоже давно уже подмечаю, что дядя Моше тяготится моим присутствием в этом мире.
– Он боится, как бы ты не подчинил со временем его сыновей. Ведь ты такой деятельный, такой предприимчивый. Соглашайся с моим предложением. Бенони бен-Гаад далеко не каждому предлагает такое, а в Багдаде, да и не только в Багдаде, каждая собака знает, кто такой Бенони бен-Гаад.
– Как же я объяснюсь с дядей Моше?
– Никак. Позволь мне сделать это. Я скажу, что ты умер в дороге от обезьяньей лихорадки или от бенгальской чесотки, вот и все. Серебра и злата Кан Рин отвалил нам с лихвою. Имея свою долю, ты прекрасно обоснуешься в Багдаде. А захочешь – переедешь в Ерушалаим. Ну как?
Некоторое время Рефоэл еще раздумывал, но на другой день все же дал согласие.
Проходя по пять-шесть фарсангов[53] в день, путешественники к концу первого месяца добрались до Паталипутры. Рефоэл, как и договорились, в город не пошел, а отправился на западную окраину, где и принялся ожидать своих спутников. Бенони и Ицхак пришли к Моше бен-Йосэфу доложить о своих делах. Выслушав окончание рассказа, Моше усмехнулся:
– Вполне возможно, что Аунг Рин не выкарабкается, если он вообще еще жив.
– То есть? – удивился Бенони.
– А разве я не предупреждал?
– О чем именно?
– О некоторых побочных явлениях, вызываемых моим снадобьем.
– Нет.
– Так вот, если человек предрасположен к какому-либо заболеванию, снадобье может резко ускорить течение болезни. Если у сына араканского царя печень была не вполне здорова, теперь она попросту разрушится.
Известие поразило Бенони. Но злорадство взяло верх над жалостью по отношению к Аунг Рину – не надо было его папаше так обходиться с гостями из далекого Багдада, ох не надо!
Пробыв в Паталипутре несколько дней, Бенони нанял здесь четырех телохранителей с двумя слонами. Эти люди согласились сопровождать евреев до Пурушапура, они были хорошо вооружены, и с ними Бенони почувствовал себя гораздо более безопасно. Что, если Аунг Рин уже сдох и его горемычный отец послал погоню за багдадскими купцами?
Но погони, к счастью, не было. За месяц добрались до Лахора, еще через неделю – до Пурушапура. Цоронго Дханин, поначалу относившийся к евреям с брезгливостью, смирился с их обществом и уже не шарахался от Ицхака, когда тот вскарабкивался к нему на загривок. Был он какой-то уж очень печальный, отрешенный, и когда во время стоянок Тонг Ай пытался развеселить его и заставить выполнять те забавные фокусы, коим научил слона незабвенный Ньян Ган, слон делал вид, будто никогда в жизни не учился этим штукам. Но ведь багдадский халиф и не просил купца раздобыть ему слона, обученного разным фокусам, ему нужен был просто белый слон. Белый… Еще неизвестно, захочет ли Аль-Мансур признать Цоронго Дханина белым, поверит ли, что в полном смысле слова белых слонов не бывает, а эта вот светло-серая окраска и считается белой.
И все-таки невеселость слона наводила на подозрение – а не болен ли он. Чего доброго – дойдет до Багдада и там подохнет, да за такой фокус можно и головы не сносить. Бенони через Фоле поинтересовался у Тонг Ая, не болен ли слон.
– Цоронго Дханин здоров и крепок, – ответил Тонг Ай.
– Почему же в таком случае он такой мрачный?
– Ему снится Читтагонг.
В Пурушапуре пришлось нанимать новых телохранителей, которые затребовали вдвое дороже, но зато обещали сопровождать до самого Багдада. Начался мучительный, тягостный и долгий переход через выжженную землю Хорасана. Солнце палило нещадно, и казалось, только слонам оно нипочем. В Кабуле к жаре добавилась невыносимая дымная вонь – там горела древняя цитадель Бала-Хиссар. Пришлось, не отдыхая, трогаться дальше в путь. Наконец показались гератские сосны, по преданию посаженные еще Александром Македонским. Пол Хорасана было пройдено. Еще через три недели добрались и до Мазандерана.