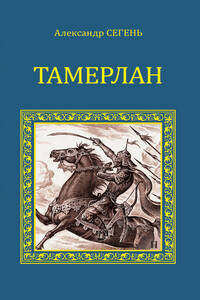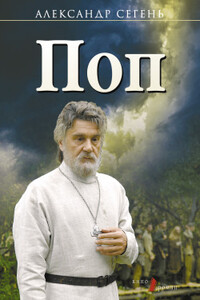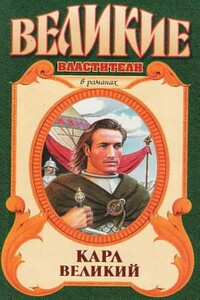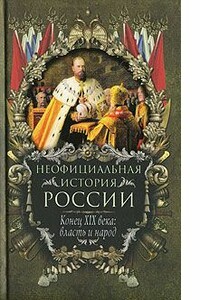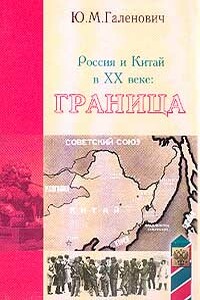Не заходя к Химильтруде, Карл прошел в свои покои, переоделся и позвал дежурившего у дверей Оврара.
– Немедленно разыщи Ганелона, Харольда, Ольведа – в общем, всех. Мы немедленно уезжаем в Валансьен.
От удивления тот застыл истукан истуканом.
– Ну что замер, будто копье в заднице! – Карл уже не мог скрыть свое раздражение. – Выполняй.
– Но мы ведь только прибыли в Дюрен, и ваше величество намеревалось здесь задержаться, отдохнуть, поохотиться.
– А мы и едем охотиться. Только в Валансьен. И пошел ты… вместе с моим величеством. Шевелись, чтобы через час нас здесь не было.
Неистово нахлестывая арабского скакуна, Карл мчался впереди растянувшихся длинной цепочкой всадников, словно стремился свернуть чью-то голову – коня или свою. Только Ольвед, Харольд и Оврар, чьи лошади были не хуже королевской, старались не отстать. Ганелона Оврар так и не нашел, а Вильм повез в Прюмский монастырь письма, исполняя просьбу священника Вольфария.
За все время бешеной скачки Карл не проронил ни слова, и друзья, удивленные не менее Оврара этим внезапным переездом, тоже помалкивали. Не обращая внимания на дорогу, Карл порой посылал лошадь напрямик, и тогда только искусный наездник мог удержаться в седле, преодолевая прыжком узкие овражки, заросшие кустарником, или небольшие ручьи с осыпавшимися каменистыми бережками, бегущие с отрогов Арденн.
И подобно этой скачке по неровной дороге или без нее, метались его мысли, то возвращаясь к последнему разговору с матерью, то улетая во времени еще дальше, к Химильтруде и своему первенцу Пипину.
Нет, он не мог себе сказать, что не любил жену или сына. Они ему были дороги, как могут быть дороги любимые игрушки, которые тоже иногда наскучивают, а тем паче ломаются, но их всегда можно отложить в сторону, вернувшись к ним позже. И здесь Бертрада права. Сколько их у него было, этих «Химильтруд», одному Богу известно. Так ведь и не найдется ни одного франка, который хотя бы раз не поприжал какую-нибудь смазливую селянку, а уж графы и бароны, те и вовсе порой брюхатили девок почем зря. И Карл соответственно относился к своим романам, расставаясь с очередной прелестницей так же легко, как и знакомился. Так что же мучило его сейчас, заставляя гнать и гнать коня, в неистовом беге изливая свое раздражение и непонятную подсасывающую тоску. Вернее, понятную, но все равно тянущую, как надоедливая зубная боль, которой он однажды мучился. Если пойти на поводу у матери, значит, с Химильтрудой придется расстаться. Но Карл не хотел этого. Ему нравилось, возвращаясь с охоты или с затянувшихся дружеских пирушек, а порой и от очередной полногрудой краснощекой девки, отдыхать в ласковых, нежных объятиях жены. Карл не любил оставаться один. Его другое, одинокое, молчаливое «я» было убеждено в своей никчемности и от этого часто терзалось страхом. Когда Химильтруда подарила ему сына, крещенного как Пипин – существовала традиция со времен Пипинидов-Арнульфингов называть мальчиков Пипин или Карл, – стало очевидно, что рука Божия коснулась младенца; столь ясен он был ликом и хрупок телом с горбиком на спине, отчего часто склонялся, сидя на руках у отца. Это была ирония судьбы – подарить сильному, здоровому Карлу ребенка, столь не похожего на деда Пипина-короля – короля, который не прощал слабостей. Немощный горбатый мальчик принадлежал другому одинокому «я» Карла, требуя любви и заботы. Потому и возился часто с ним Карл, нянчился, пытаясь дать своему первенцу то, чего был сам лишен в детстве с таким суровым отцом. А когда у Карломана родились двое здоровых, крепких сыновей, это стало очередным ударом, насмешкой судьбы.