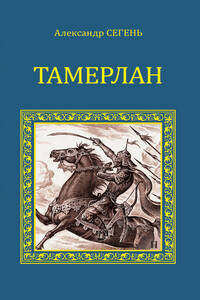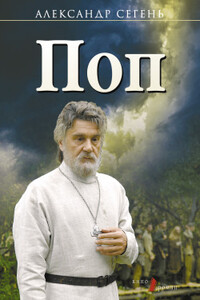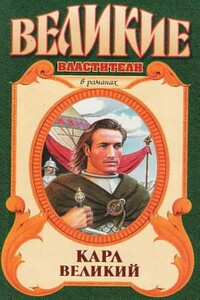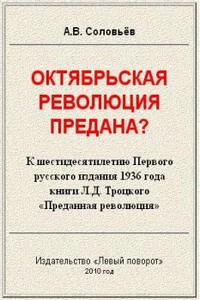– Впрочем, – говорил Алкуин, – не стоит печалиться. Вместе с Константином мы приобретали бы у себя в доме огромную шайку иконоборцев. Мало того, что они еретики, нам бы пришлось еще бы и воевать с Ириной, отстаивая их интересы. К тому же я предвижу в будущем совсем другой брак, другую связь с Константинополем…
Как бы то ни было, а во время встречи в Риме с послами из Византии предыдущие договоренности о браке между Хруотрудой и царевичем были отменены, а евнух Афанасий, обучавший принцессу греческому языку и византийским традициям, отправился домой в Грецию.
Надо сказать – к великой радости Хруотруды, которой очень нелегко давался язык Иоанна Дамаскина и Романа Сладкопевца, а жирный и потный евнух был весьма далек от идеала мужчины в представлении мечтательной и пылкой принцессы. Гораздо ближе к этому идеалу оказался восемнадцатилетний и стройный отпрыск ингельгеймского сенешаля. Он разговаривал с ней на самом понятном и приятном для девушки языке – языке поцелуев. Побывав в войске Карла во Флоренции, он даже научился целоваться по-флорентински, то есть – держа девушку руками за уши и лаская ей ушные мочки. Когда в откровенном разговоре Хруотруда поведала об этом отцу, Карл долго и от души хохотал, забыв о зубной боли, которая мучила его всю ту ингельгеймскую зиму.
Другой зубной болью оказалась в том году Фастрада, которая продолжала толстеть и совсем перестала волновать короля как женщина. А вместо того чтобы понять причины охлаждения и принять какие-то меры, она взялась денно и нощно упрекать его в отсутствии любви и в отказах от исполнения супружеских обязанностей. Лишь изредка, с большим трудом Карл принуждал себя возлечь с Фастрадою и, когда, наконец, выяснилось, что она вновь беременна, вздохнул с большим облегчением.
Он полюбил Хруотруду и стал уделять ей много времени, гуляя в пленительных окрестностях ингельгеймского пфальца. Он переплывал с нею вместе на другой берег Рейна и взбирался на кручи Таунусских гор, где как-то по-особенному вкусно дышалось. Не будь Хруотруда его дочерью, Карл непременно влюбился бы в нее в то лето по-настоящему, как зрелый мужчина в юную девушку. Он ведь даже приревновал ее к Гримоальду, сыну Арихиса, живущему в Ингельгейме в качестве заложника. Разлученная с сыном сенешаля, Хруотруда, недолго мучаясь, влюбилась в этого смазливого итальяшку. Однажды Карл сам застукал их целующимися.
– Ну вот, – возмутился он, – по-флорентински ты уже умеешь, теперь решила научиться по-беневентски, да? Нет уж, милая, если я отвадил от тебя сына доблестного воина, то сын клятвопреступника точно тебя не получит, Алкуин отговаривал Карла, ссылаясь на просьбы Папы ни в коем случае не отпускать Гримоальда, тем более что вдова Арихиса, Адальперга, спутавшись с сыном Дезидерия, Адальгизом, захватила власть в Беневенте и продолжала политику своего покойного муженька. Но Карл был непреклонен и отпустил Гримоальда на все четыре стороны, запретив на выстрел приближаться к Хруотруде.
Тассилон Баварский оказался столь же коварным, как и Арихис. Он вновь взялся за свое, но был выкраден из Баварии и привезен в Ингельгейм, где был предан суду во время собравшегося там генерального сейма. Поскольку, в отличие от Арихиса, он, когда клялся, говорил не «пусть я помру», а «пусть меня казнят», сейм и приговорил его к смертной казни. Но Карл, благодушествуя по случаю излечения от зубной боли, заменил смертную казнь постригом и велел отправить строптивого бавара в тот же монастырь, в котором доживал свой век бывший тесть Карла, Дезидерий.
Едва лишь были во второй раз улажены дела баварские, как на востоке обозначился новый враг – авары. Некогда вместе с ордами Аттилы это кочевое племя пришло на берега Данубия[70] и здесь, в Паннонии, осело, захватив огромную территорию. Городов авары не строили, а столицей у них был великий лагерь, называемый «рингом». Там сидел аварский хан, который, узнав о падении Тассилона, решил попытать счастья в Баварии и трижды за это лето посылал свои отряды грабить соседних баваров, однако франкские заставы стояли крепко и отразили все три набега.