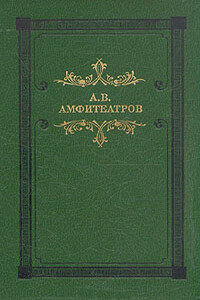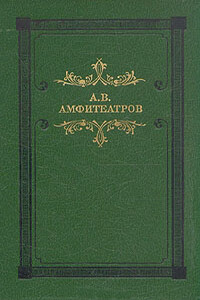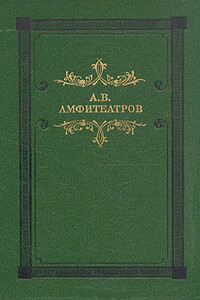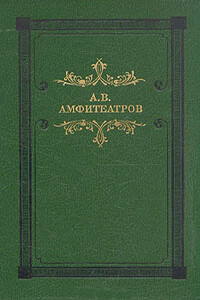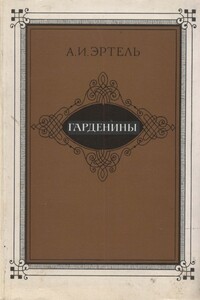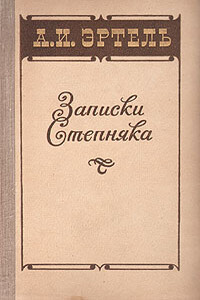— Перевертень!.. Гог-Магог!.. Помёт антихристов!.. Сосуда дьявольская!.. Бес… бес… бес… — ругал он смеющегося хозяина, а иногда, не удовлетворившись этим, вне себя подбегал к Турке и кричал задыхаясь: — Держи его, христопродавца!.. — Кусь его!.. Вззы его!..
Впрочем, когда дело доходило до Турки, Перелыгин тотчас же переставал смеяться, слегка бледнел и грозно замахивался на старика палкой. Как и все в Апраксине, Петр Евсеич боялся Турки. Да и нельзя было не бояться. Эта овчарка, бегавшая на блоке по канату, натянутому вокруг мельницы, была свирепа и сильна, точно дикий зверь, она никого не подпускала к себе, ни от кого не принимала пищи, кроме Агафона. Если дед, не закреплял к одному месту блок с цепью, на мельницу решительно нельзя было пройти; стоило показаться человеку даже во многих саженях от мельницы, как Турка приходила в неописанную ярость и с налитыми кровью глазами, с пеной у рта, с оскаленными клыками, острыми точно ножи, прыгала вдоль каната, становилась на дыбы, гремя тяжелой цепью; хрипела и закатывалась от злобы. Даже к деду она никогда не ласкалась, и когда он подходил к ней, в ее зловещих глазах нельзя было приметить ничего дружелюбного, лишь какая-то суровая почтительность устанавливалась в них, как у самого деда, когда он встречал хозяина.
Кроме Петра Евсеича, Агафон ни с кем не вступал в разговоры и не ругался, ни на кого не натравливал Турку. На всем его изрытом глубокими морщинами бесцветном лице лежало величайшее презрение к людям. С утра до ночи он, то весело, то злобно ухмыляясь, что-то шептал себе в бороду, чутко прислушивался к звуку снастей, следил за ветром, лазил с непостижимой для его лет ловкостью вокруг зубчатых колес, обстругивал запасные цевки, ковал жернова, смазывал шестерни, — держал мельницу в образцовом, по мнению мужиков — в колдовском, порядке. А ночью, после скудного ужина, доставал кожаные четки, открывал в стене избушки продолбленное на восток отверстие и целые часы простаивал перед этим отверстием на молитве.
Вот этот-то старичок вместе со своей собакой до странности невзлюбил Бучнева. Доктор каждый день, утром и вечером, проходил мимо мельницы купаться, и каждый раз Турка с невыразимым остервенением лаяла на него, так натягивая канат, что он звучал как струна, а мельник выходил на порог и вместо приветствия озлобленно сверкал глазами из-под лохматых бровей, неприятно кривил беззубым ртом и кричал:
— Кусь его!.. Вззы его!.. Аль боишься, Гог-Магог?.. Попытай, попытай… она не выпустит черевы!..
Сначала доктор пробовал отделываться равнодушием и как ни в чем не бывало приподымал свой колпачок и говорил: «Здравствуй, дедушка!» — но получая в ответ неизменные дерзости вроде того: — «Какой я тебе, окаянному табашнику, дедушка… Твой дед — бес!» — перестал кланяться и очень заинтересовался этою беспричинною ненавистью. Он подробно расспросил Петра Евсеича о старике, но тот знал только, что Агафон спасался в скитах, что в этих скитах было обнаружено нечто противозаконное, что отшельники по сему случаю разбежались и Агафон живет едва ли не по фальшивому паспорту… Все это до некоторой степени объясняло поведение мельника, хотя опять-таки было неясно, почему вместо обычного презрения он удостаивал доктора ненавистью.
Но еще больше, чем стариком, Бучнев заинтересовался собакой. Между его излюбленными мыслями была одна, которую он отстаивал с особенной горячностью: будто бы взглядом и внутренним напряжением воли, возможно укротить самое злое животное. Он говорил, что в грядущем это разрастется в науку и что надо буквально понимать пророчество Исайи, что «младенец будет играть над норою аспида». И вот однажды, возвращаясь с купанья, он на мгновенье остановился, потом твердыми шагами повернул к мельнице и спокойно погладил ошеломленную такой дерзостью Турку. Мельник так был поражен, что не вымолвил ни слова… Зато на другой день опыт окончился печально: собака бешено вцепилась в икры доктора и вырвала порядочный лоскут мяса. Дед притворился испуганным, зашумел на Турку, прогнал ее в конуру, но Григорий Петрович, бинтуя разорванной простынею свою окровавленную ногу, явственно слышал его злорадное бормотанье и торжествующий сиплый смех.