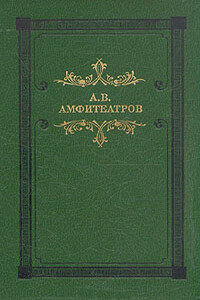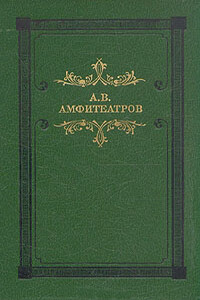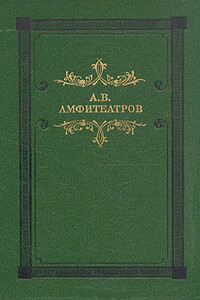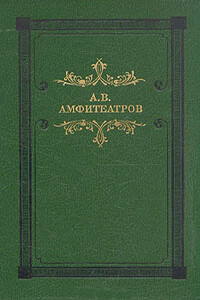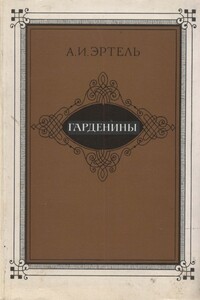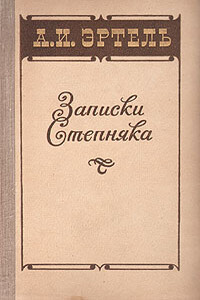— А эта песня приведена у Пушкина! — живо произнесла Варя.
— Ей-богу, не помню-с, — может, и приведена, — небрежно проронил Тутолмин.
— В «Капитанской дочке», — напомнила Варя.
— Ей-богу, не помню-с, — упрямо повторил Илья Петрович.
— Ах, какая прелестная песня, папа! — воскликнула девушка. — Ты не поверишь, до чего она делает впечатление… Именно какая-то величавость в ней и строгость тона!
— Может быть, — сухо ответствовал Волхонский и с видом изысканной вежливости предложил гостям сигары.
Произошло неловкое молчание. Тутолмин порывисто сосал сигары и думал с досадою: «И зачем меня занесло в этот комфортабельный катух?!» А Варе было нехорошо за отца; и не то, чтобы она не соглашалась с ним, — ей даже нравилась юмористическая форма его выходок, — но отношение к этим выходкам Тутолмина смущало ее. По этому отношению она догадывалась, что отец говорит, должно быть, очень избитые и, пожалуй, даже пошлые вещи. И что вообще он, должно быть, ужасно отстал. И ей было больно это. Она даже чувствовала, как кровь приливала к ее щекам и шея нестерпимо горела под двойными городками рюша. Захар Иваныч тоже был недоволен. «Испортили вечер миляге», — думал он, мельком поглядывая на сумрачную физиономию Ильи Петровича.
И вдруг Волхонский ясно увидел, что он произвел дурное впечатление. «Однако не подумал бы этот misérable[24], что я консерватор, — опасливо шевельнулось в нем, — ведь у них, если на мужичка посмотрел косо, и пропал бесследно…» И странное ощущение какой-то холодной и неприязненной струи коснулось его.
— Но, разумеется, не в этом суть, — произнес он торопливо и мягко, — суть в том, что и с песнями, и без песен живется тяжко. А что делать? Приходится сидеть в стороне и смотреть, как безнаказанно гибнет народ с несомненной исторической ролью и как его нищенский скарб расхищается на пользу различных звездоносцев…
Варя встрепенулась. «Как хорошо он это сказал, милый папка!» подумала она и с невольным торжеством поглядела на Тутолмина. Но Илья Петрович сидел по-прежнему угрюмый и с нетерпением кусал сигару. «Что же это!» — внутренне воскликнула девушка и застыла в недоумении.
А Волхонский распространился в необузданных речах. Он пылал. Он чувствовал, как упругие волны какого-то радостного восторга непрерывно подмывают его и охватывают мелким ознобом и приятно стесняют ему дыхание… «Все равно — не донесут!» — думал он иногда, отпуская чересчур резкое словечко или дерзко касаясь фактов, недоступных обсуждению. И говорил, говорил неотступно…
Илья Петрович все молчал и безучастно смотрел на дымок сигары. Но вдруг он вскочил: Алексей Борисович, покончив с критикой существующих безобразий, перешел к рецептам и жадно завздыхал о палате лордов.
— Не бывать этому! — задорно закричал Тутолмин. — Отдавать народ в руки баричей и золотушных культуртрегеров!.. Вручать его судьбы шайке космополитических хлыщей… Отравлять его вожделения фельетонными идеалами вылощенных болтунов!.. Не бывать этому, почтеннейший господин!.. Пока существует Русь, пока живы исторические стремления русского народа, пока вы его не опутали сетью ваших мероприятий жидовско-индустриального свойства, — этому не бывать!.. А следовательно, никогда не бывать!
— Но ты забываешь, Илья, что каждому времени — выражение своих потребностей, — вмешался Захар Иваныч, несколько огорченный непочтительным обращением Тутолмина к Алексею Борисовичу.
— А! Каждому времени! — вцепился в него Тутолмин. — Так ты со своим паршивым рационализмом потребности времени представляешь?.. Врешь!.. Ты раздраженье пленной мысли представляешь, а не потребности… На какого дьявола нужны все твои скоропашки и скоромолки?.. Мужик вот возьмет да вжарит ренту до чертиков — скоропилки твои и пойдут на гвозди… Да, на гвозди-то самые обыкновенные, — корявые и неуклюжие, — мужику грядушку к навознице приколачивать… И первый же вот либеральный барин, — указал он на Волхонского, — пропишет тебе отставку с твоими скоровейками и скоросейками, ибо прельстится на мужикову сумасшедшую ренту… Кому ты рассказываешь!
— Стало быть, вы науку отрицаете? Интенсивность отрицаете? — ядовито осведомился Волхонский.